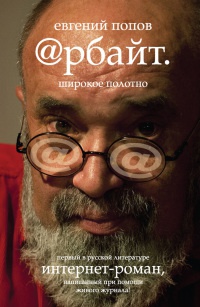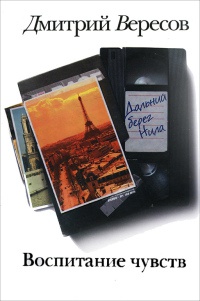Глава 7
На бангкокском вокзале кэмпэйтайцы вывели нас на платформу, в толпу сиамцев-путешественников в ярких саронгах, где и передали в руки взвода солдат. Их численность и нагловатая настороженность, будто они специально подзуживали нас на побег, давали понять, что мы немало значили в глазах какого-то вышестоящего чиновника, фанатика нацбезопасности. Шестерых моих товарищей тут же заковали в наручники, а меня вокруг пояса обвязали веревкой, второй конец которой держал конвоир. В таком виде нас и повели сквозь людскую толчею. Гражданские делали вид, будто ничего не замечают, или тут же отводили глаза, — не принято пялиться на человека с выставленными вперед сломанными руками, которого ведут на веревке будто осла, да еще в компании шестерых оборванцев с кровоподтеками. Мы как призраки скользили сквозь переполненный вокзал.
Нас уже поджидал японский грузовик, куда-то повезли. Война словно оглушила город, почти не оставила уличного движения; встречались только велосипеды. Нездоровая тишина подавляла резким контрастом с нашим рычащим грузовиком, изрыгавшим грязные клубы дыма. Мы миновали германское посольство, внушительное каменное здание, чей фасад оттенялся багряным флагом со свастикой. Некоторое время ехали вдоль электрифицированных трамвайных путей, по которым тащились, побрякивая, старенькие одноэтажные вагончики. Их звон наводил на мысли о родном доме.
И вот мы добрались до солидного и невыразительного здания; у входа, на совершенно пустой улице, навытяжку застыли часовые. Судя по обмундированию тех, кто нас принял и рассадил по камерам, здесь заправлял кэмпэйтай. Меня сунули к перепуганным сиамцам и китайцам, все как один гражданские, кое-кто в слезах. Я обратил внимание, что наша камера была квадратной, что показалось очень странным. Минуту спустя я сообразил, что успел привыкнуть к прямоугольным камерам; меня уже низвели до состояния, когда я научился замечать малейшие изменения в той среде, сквозь которую меня пропускали.
На следующий день нашу семерку вновь собрали вместе и перевезли, на сей раз на территорию некоего поместья, надо полагать, очередного реквизированного владения в длинном списке секретных объектов японской армии. Здесь имелось немало служебных построек, одну из которых и превратили в импровизированную каталажку. Вместо фасада устроили решетку, чтобы прогуливающийся у входа часовой мог видеть арестантов. Нас загнали внутрь и приказали сесть на пол. Мы подчинились. Японский офицер только головой покачал и продемонстрировал, как именно полагается сидеть: исключительно поджав ноги.
В этой камере мы просидели тридцать шесть дней — в буквальном смысле просидели: колени вразлет, лодыжки скрещены, с семи утра до десяти вечера. Размять ноги разрешали едва ли один час в сутки, во дворике. Шевелиться или разговаривать в камере запрещалось. Мышцы сводило судорогой от столь долгого пребывания в непривычной для нас позе. В подобных обстоятельствах вес собственного тела проявляется самым неожиданным образом: к примеру, когда уже невозможно выносить давление одной голени на другую, ты чуточку поворачиваешь крестец, облегчение наступает немедленно, но через минуту возникает новая боль, в новом положении. А у меня бедра и без того еще не успели подлечиться, к тому же сломанные руки приходилось держать на коленях. Вот в такой позе я и сидел — ни дать ни взять карикатура на молящегося буддиста.
Майор Смит, не на шутку обогнавший нас по возрасту, вообще не мог справиться с этой позой. Ох и страдал же он! Под какими только немыслимыми углами ни выставлял коленки, а боль его мучила такая, что он был готов плюнуть на репрессии со стороны охраны и просто вытянуть ноги перед собой. Через какое-то время даже японцы махнули рукой на нашего «несгибаемого» майора и разрешили ему сидеть как хочется. В этой ситуации — как, впрочем, и во всех других, — бедолага Смит был самым уязвимым среди нас.
Кое-кто из охранников, которым приходилось насаждать эти диковатые порядки — «правила хорошего тона» по версии тайной полиции, — оказались лучше своих среднестатистических коллег из тюремного ведомства. Один из них даже пытался разговаривать с нами по-английски, что не только поднимало настроение после многочасового сидения в подавленном молчании, но и давало надежду на извлечение информации. По своему чину он был гунсо, то есть старший унтер-офицер, просто кадровый военный без какой-либо склонности к насилию или подловатым выходкам. Он спрашивал нас про порядки в британской армии, интересовался нашей кухней и климатом, а мы старались развести его на рассказы, что нас ждет в «большом доме» по соседству. Тут мы успеха не добились, да он, наверное, и сам мало что знал. Порой я задавался вопросом, включат ли его в состав нашего расстрельного взвода, если до такого дойдет…
Как-то раз один из охранников обмолвился, что до нас в этой камере сидел еще один пленный, по фамилии Примроз, который ходил в юбке и обвинялся в убийстве своего же сотоварища. Мы навострили уши и как могли попытались разузнать о дальнейшей судьбе этого шотландца в традиционном килте. Охранник разговорился, и мы услышали одну из тех историй, которые позднее облетели всю систему японских лагерей и тюрем. Миф, легенда, слух — настолько незаурядный, что вполне мог оказаться чистой правдой. Итак, Примроз служил лейтенантом Аргайлско-Сазерлендского хайлендерского полка, и в середине 1943-го содержался в одном из дальних лагерей на нашей железной дороге. Японцы пригнали туда многочисленный рабочий контингент из тамилов, которых, как обычно, держали за рабов; еженедельно голод и бесчеловечное обращение выкашивали их десятками. И тут в тамильском лагере вспыхнула эпидемия холеры. Чтобы сдержать распространение заразы, японская администрация ТБЖД применила новаторский способ: заболевших расстреливали.
Когда холеру подхватил один из британских пленных, его перевели в палатку-изолятор на краю лагеря, где он и поджидал «утилизации». Примроз однажды проходил мимо и увидел, как этого солдата, который метался в лихорадочном бреду, пара японцев-охранников перетащила к дереву. Один из них уже готовился его расстрелять, причем со значительного расстояния; этот тип сильно нервничал, был явно неопытен и практически наверняка не убил бы британца с первого выстрела, что означало лишь дополнительные бессмысленные муки. Примроз выхватил у японца винтовку и первой же пулей попал в сердце. За что и был обвинен в убийстве.
Я спрашивал себя: что с ним сталось? к нашему появлению его уже успели прикончить? за насилие во имя человеколюбия?.. И годы спустя эта история не выходила у меня из головы, я был захвачен поступком Примроза, его решительностью и состраданием. Символично: нас довели до такого состояния, что приходится убивать своих же — из милосердия.
Вяло тащились дни, пропитанные скукой и лишениями. Отвлечься было не на что. Кормили рисом с непонятным соусом типа рыбного, еще давали тепловатый чай. Если забыть про походы к сортирной дырке, мы только и делали, что сидели на полу.
Однажды Тью тихо буркнул: «О чем бы таком подумать?» В ответ Фред Смит прошептал: «А ты что, уже все успел обмозговать?» — «Да» — «Тогда начинай по второму кругу». Увы, по истечении известного времени циклическая переработка воспоминаний выходит на нешуточный уровень, мысли начинают сами себя пережевывать как картонную жвачку, без вкуса и пользы.