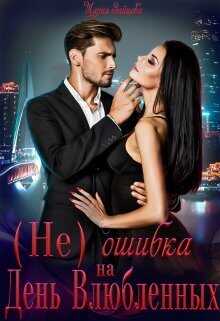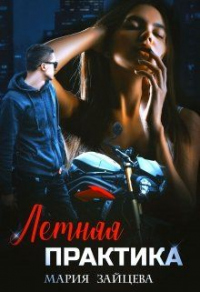мужики были в возбуждении, потому что перспективы работы открывались сказочные.
И я, бесконечно слыша вокруг, что Владимир Петрович то, Владимир Петрович это, Владимир Петрович туда, Владимир Петрович сюда, ощущала себя словно в коконе. Горелый, не приближаясь, не желая меня знать, тем не менее, окутывал собой, словно заматывал в пупырчатую пленку безопасности, даря спокойствие.
Это тоже было странно.
И тоже приятно.
То, что спокойствие мне сейчас приоритетно, я поняла сегодня утром.
И вот теперь набираюсь его, спокойствия этого, дышу морозным воздухом, улыбаюсь, ощущая ласку солнца…
— И какого хера ты тут опять сидишь?
Грубый голос разбивает мое морозное настроение, заставляет вздрогнуть, открыть глаза.
И упереться взглядом прямо в бородатое, смурное до невозможности лицо.
Горелый сидит передо мной на корточках, серьезный, злой даже, в одной футболке и спортивных штанах, на ногах резиновые шлепки. И пятна красные на щеках. Словно не шел, а бежал по утреннему ноябрьскому морозцу…
— Я… — Я как-то теряюсь даже, не знаю, что сказать, как среагировать на его появление. С одной стороны, так много хочется говорить, а с другой… Смотреть на него хочется. Я, оказывается, скучала. Это так странно… Почему я по нему скучала? Он же… Он хам редкостный… Нахуй меня послал, подарив несколько самых жутких минут в жизни, когда я реально думала о том, что умру. Именно в то мгновение. Просто дышать перестану.
И пусть он потом сделал все, что должен сделать любой нормальный мужчина, имеющий возможность помочь в безвыходной, опасной ситуации… Зато после не захотел меня видеть и слышать, поблагодарить не позволил… Мы оба хороши, чего уж там… Умеем причинять боль…
— Дура ты, Карина Михайловна, — хрипит он неожиданно низко, и изменение тональности бьет по самому низу живота, так сладко там становится, так трепетно… Ох, прав он, дура ты, Карина… Трепет какой-то, блин… Глупость…
И я хочу сказать ему, что не надо меня обзывать опять, что с меня довольно, и, наверно, еще кое-что хочу ему сказать… Но не успеваю.
Широченная ладонь тянется ко мне, мягко, но совершенно неотвратимо скользит по шее, ложится на затылок, Горелый становится передо мной на колени… И целует. Не грубо, но очень властно, обстоятельно, давая понять, что это вообще не порыв, а осознанное действие. Заявление своих прав.
И я соглашаюсь на это заявление. Открываю рот, позволяя себя целовать, отвечая. И улетая от старых-новых ощущений, горячих до дрожи во всем теле.
Горелый, похоже, чувствует что-то такое же, потому что обхватывает меня уже обеими руками, да так крепко прижимает к себе, что дышать становится тяжело.
— Дура ты, какая дура… — хрипит он, — и я дурак… Ты прости меня… За то…
— И ты меня прости, — шепчу я в ответ, — я просто… Я не знала, что делать… Прости… Мне показалось, что ты этого ждешь…
— Дура…
— Дура. Прости.
Он прижимает меня, дышит тяжело и взволнованно, я чувствую, как его твердая грудь ходит ходуном от волнения, и тянусь губами к дубленой коже на шее, желая успокоить, чисто по-женски, на инстинктах.
От касания моих губ он вздрагивает, словно норовистый жеребец, всем телом. На миг сжимает еще крепче, а затем, выругавшись, легко поднимается с колен.
Вместе со мной на руках.
Только охнуть и успеваю.
— Ты что? — бормочу, растерянно цепляясь за каменные плечи и тревожно глядя в спокойное, суровое лицо, — отпусти…
— Нет уж, — Горелый улыбается, показывая белоснежный оскал зубов, лихой и слегка безумный, — я хочу тебя выебать. Со вкусом, долго и грязно. А для этого нам нужна постель.
— Но Яська…
— За ней зайдут, приведут ее в мой дом и займут игрой.
— Но соседи…
— Похер. Все равно ты ко мне переедешь…
Тут он тормозит, чуть подбрасывает меня на руках, заставляя взвизгнуть и сильнее вцепиться в плечи, заглядывает в лицо тревожно и слегка неуверенно:
— Переедешь же?
Мне так приятна его неуверенность, настолько она отличается от того, что он делал до этого, от того, что, говорил, как покупал меня… Сейчас он не покупает. Он предлагает. И ждет моего ответа. И почему-то мне кажется, что, откажи я, он примет. Правда, тут же примется убеждать всеми доступными ему методами, но силой не потащит…
И мне не хочется отказывать.
Потому я говорю:
— Я подумаю.
Он на мгновение хмурится, не нравится ему мой ответ, но затем опять сверкает улыбкой, такой контрастной по сравнению с темнотой бороды.
— Я приведу железные… аргумент.
— Аргументы? — поправляю я, но он отрицательно машет головой:
— Он будет один. Но тебе понравится.
Горелый возобновляет движение, я больше не спрашиваю ни о чем, хотя могла бы.
Но к чему сейчас расшатывать ему нервы. дополнительно?
Ему еще постигать новость, что скоро во второй раз отцом станет…
Не стоит раньше времени напрягать человека.
Пусть сначала мне аргумент свой продемонстрирует во всей красе и объеме… А потом уж…
Я всесторонне обдумываю эту свежую мысль, пока Горелый, вообще не скрываясь и не стесняясь, наоборот, с триумфом первобытного человека, заполучившего к себе в постель сладкую самочку, тащит меня в свой дом прямо по центральной деревенской улице.
И думаю о том, что жизнь — странная такая штука.
Горелый приехал сюда, гонимый местью и желанием, чтоб я заплатила за шесть лет его жизни.
А, в итоге, мы оба заплатили сполна. За все.
И теперь никаких долгов.
Только аргументы.
Железный.
Конец