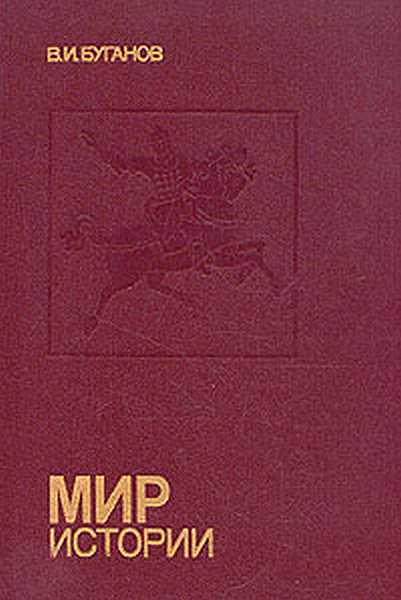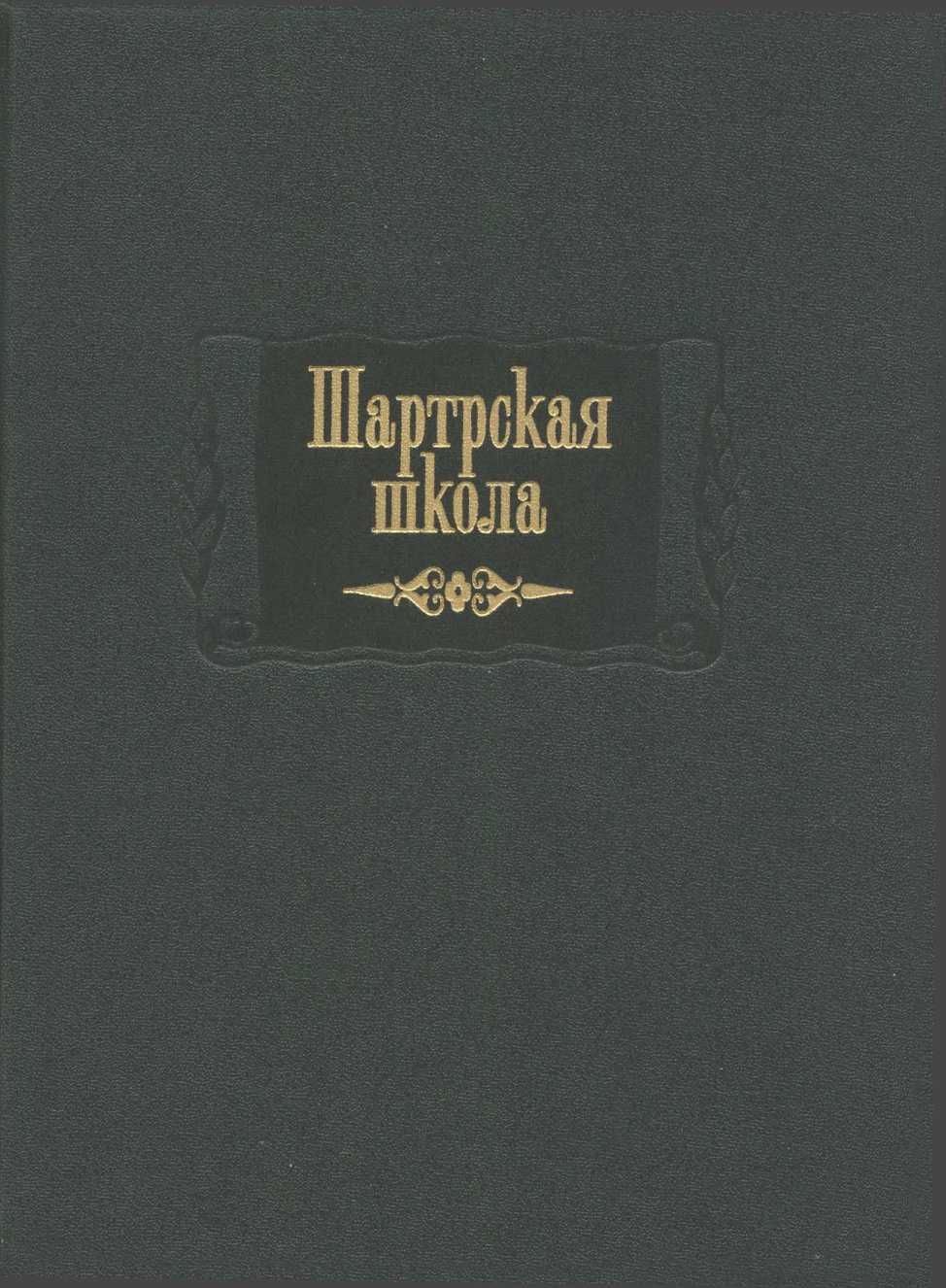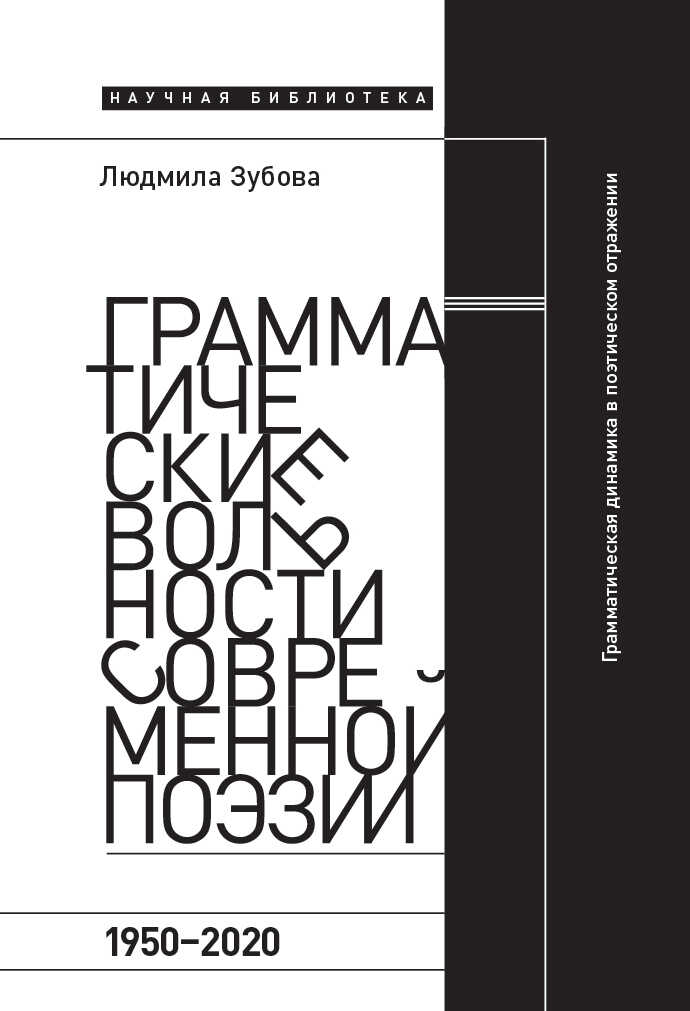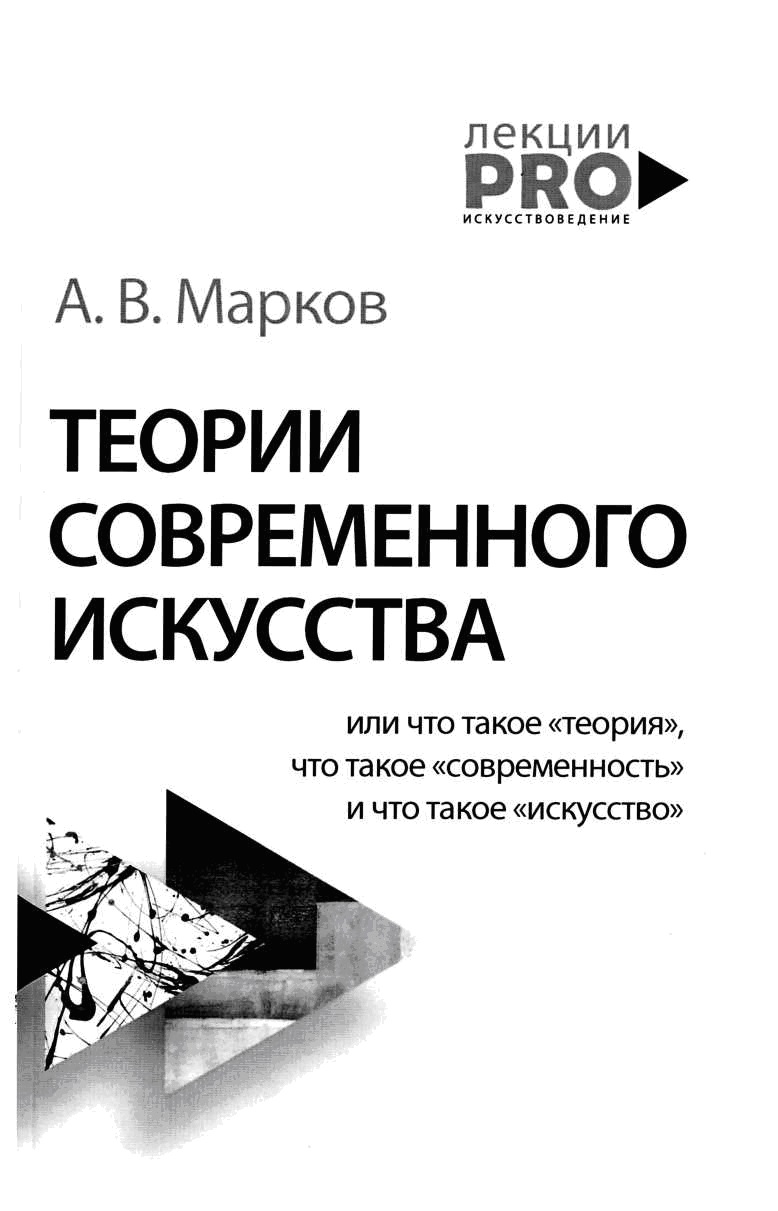образом, в Концентрационном мире власть достигала своего апофеоза, выражавшегося в том, что ни одно ее действие против подчиненного не содержало в себе ничего аморального (а раздевание человека без его согласия есть одно из самых аморальных действий в европейской культуре) и являлось юридически и нравственно допустимым. Идеальный узник должен быть гол, то есть максимально унижен, нагота становится одной из важнейших его примет. Именно поэтому узников публично обнажали при любой возможности. Закономерным следствием, продолжением этого состояния, идеальным выражением наготы становилось молчание (о молчании речь пойдет в отдельной главе о языке лагеря). Обнаженный беседующий человек, если он не находится в пространстве, где обнажение допустимо (как, например, баня или кабинет врача), выглядит противоестественно, он неадекватен, выпадает из общей системы порядка и подлежит изоляции или, как в данном случае, даже уничтожению.
Наконец, лишение одежды в лагере становилось символическим убийством человека, так как, расставаясь с одеждой, знаком и носителем прежней жизни, заключенный не обретал новую жизнь, а вступал в пространство смерти, которая должна была сбыться в нем спустя какое-то время. «У нас не было мужества, не было смелости сказать им, нашим милым сестрам, чтобы они разделись догола, – писал один из членов зондеркоманды[279] З. Градовский, – ведь вещи, которые на них надеты, – это теперь их последняя оболочка, последняя защита в жизни. Когда они снимут одежду и останутся в чем мать родила, они потеряют последнее, что привязывает их к жизни. Поэтому мы не требуем, чтобы они разделись. Пусть они останутся в своей «броне» еще мгновение: ведь это их последнее жизненное укрытие!»[280]
Однако, пока человек еще физически существовал, в обнаженном состоянии он становился апофеозом беззащитности и уязвимости. Обнажение лишало субъекта возможности защищаться даже психологически, так как у него, по выражению В. Франкла, «не оставалось ничего, кроме собственного тела… ничего, кроме нашего в самом прямом смысле голого существования»[281]. Публичное обнажение и неизбежный страх беспомощности, а также стыд, связанные с этим актом, приводили человека в состояние конфликта с самим собой. «Если нагота заставляет нас испытывать стыд, – пишет Д. Агамбен, – то это происходит потому, что мы не можем спрятать то, что хотим уберечь от взгляда, и неудержимое стремление убежать от себя наталкивается на неоспоримую невозможность бегства»[282].
Желание спрятаться и невозможность это сделать становятся экзистенциальной или даже онтологической «проблемой наоборот», кардинально противоречащей состоянию Христа на кресте, когда он мог сойти, но не хотел, так как без этого бы не было спасения. Данное состояние Христа стало архетипом становления и развития человека, выход из этого состояния не через избавление от страданий, а через преодоление их стал маркером личностного, духовного роста. При этом важно понимать, что данное состояние, как и спасение, является не происходящим во времени, а совершающимся постоянно, длящимся. Это именно состояние, а не действие, природа которого предусматривает хронологическую завершенность. В лагере описанная выше «проблема наоборот» («хочу, но не могу») обретала также форму длящегося состояния, сопровождающего заключенного все время пребывания в лагере и неизбежно приводившего его к уже упоминавшейся «выученной беспомощности» и превращению в ребенка, о чем еще пойдет речь.
Обнажение и стыд, связанный с ним, были первыми актами и ощущениями, которые приходилось совершать и испытывать человеку при транспортировке в лагерь и сразу после прибытия. То есть стыд вызывало столкновение с принципиально иной реальностью. Для понимания разницы этих реальностей важна мысль М. Хайдеггера о том, что стыд – это нечто большее, чем чувство, которое переживает человек. Скорее это эмоциональная тональность, которая пронизывает все его бытие. Стыд – это род онтологического маркера, который отмечает место, где максимально обостренно сходятся человек и бытие. Стыд также может быть описан как полутон бытия. То есть если до лагеря человек видит в жизни полутона, которые отлагаются от фундаментального основания бытия, придают ему полноту и их распознавание обусловлено «бытием бытия», то в лагере человек не видит ничего, кроме полутонов, в которых полностью растворяется бытие. Кроме того, стыд точно отражал состояние обнаженного человека, которое можно описать формулой «я ничего не могу». То есть в этой ситуации, по точному выражению Т. Горичевой, «стыд возникает от бессилия и сознания своих границ. Бессилие ведет к фатальному, неизбежному»[283].
Стыд, ужас, голод, боль, злость составляют сущность человека, подменяют его, он перестает существовать «на самом деле» и приходит к осознанию «небытия бытия». Таким образом нагота становится экстремальным признаком, заместителем бытия, признаком хоть и второстепенным, но который становится в условиях лагеря важнее главного. А поскольку нагота публична, то есть это новый опыт переживания наготы, она дает опыт первого ощущения себя иного, приводит к повторному узнаванию себя через стыд. Характерно то, что, по воспоминаниям, чувство стыда у узников вызывало не обнажение запретных мест тела, а обнажение в целом, любой части тела, кроме традиционно открытых. «Из-за переполнявшего нас стыда, – вспоминала узница Освенцима Р. Вайсс, – мы даже не понимали, какие части тела нам закрывать руками»[284].
Это узнавание, как правило, несло в себе опыт разочарования и отвращения. Заключенных поражали перемены, происходившие с ними и отчетливо видимые при каждом обнажении, ужасала скорость, с которой менялось и становилось отвратительным, отталкивающим собственное тело. «Мои руки даже не узнавали моего тела, когда терли его», – свидетельствовал Х. Герман[285]. «Я никогда бы, например, не подумал, что могу так скоро превратиться в дряхлого старика, – вспоминал И. Кертес. – Дома для этого требуется время – по крайней мере пятьдесят – шестьдесят лет; здесь же хватило трех месяцев, чтобы тело мое отказалось мне подчиняться. Нет ничего более мучительного, более удручающего, чем день за днем наблюдать, день за днем подводить грустный итог, какая часть тебя безвозвратно ушла в небытие. Дома хоть я и не слишком много внимания обращал на свой организм, в общем жил с ним в согласии, даже – если можно так выразиться – любил его… Я только поражался, наблюдая ту скорость, тот сумасшедший темп, с которыми, что ни день, уменьшалась, таяла, пропадала куда-то покрывавшая мои кости плоть с ее упругостью и надежностью. Каждый раз, когда мне приходило в голову взглянуть на себя, меня что-нибудь удивляло: какой-нибудь новый неприятный сюрприз, какое-нибудь новое безобразное явление на этом все более странном, все более чужом мне предмете, который когда-то был мне другом, был моим телом. Я уже и смотреть на него не мог без некоего двойственного чувства, некоего тихого отвращения; со временем я еще и по этой причине перестал снимать одежду, чтобы помыться»[286].
Стоит напомнить, что идея