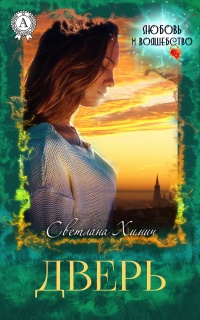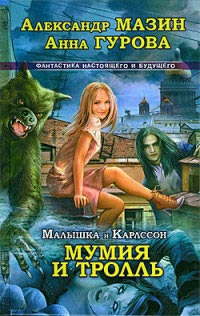Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 107
– Если бы ты убил его, мы бы могли не получить деньги.
– А, ты об этом. – Олле махнул рукой. – Не стоит беспокойства, фрекен. Я умею отыскивать тайники, так что могу передушить половину столичных мошенников, а Теодор не останется в убытке.
– Если бы ты передушил половину мошенников, через неделю нам было бы не с кого спрашивать, – фыркнула она. – Только дурак станет резать дойную корову.
– Тебя послушать, так у нас не шайка бандитов, а второй Комитет какой-то! Сплошная забота о членах сообщества.
Он не вложил в последнюю мысль и доли яда, но Анхен страшно побледнела.
– Не смей! Не смей пачкать своим поганым ртом то, чего даже не понимаешь! – крикнула она, спугнув пару пепельно-серых голубей и обратив на себя внимание нескольких прохожих.
Немая сцена длилась недолго.
– Мой тебе совет, ягненок: не выставляй своих больных мест напоказ, – Миннезингер ухмыльнулся. – Особенно таким, как я.
– Паршивый вымесок. – Анхен плюнула ему под ноги и зашагала дальше.
– Уж какой есть, фрекен, какой есть.
Блеклое солнце, так и не разогнавшее тучи, потихоньку сползало за холм, увенчанный дворцом, который понемногу наращивал плоть на обгорелых костях. Чем ближе к Углу они были, тем меньше плакатов смотрело на Олле. Тем острее он ощущал собственную уязвимость и одиночество.
***
Угол не был бы Углом, если бы не форма здания, где расположился Теодор со своими приближенными. Если бы кто-то спросил мнения Олле, он придумал бы как минимум десяток более выразительных и поэтичных имен этому месту: Гнездо, Седые Букли, Королевская Ночлежка… Да что угодно было бы лучше! Но нет ничего живучей, чем старые прозвища.
Когда-то здесь была мастерская по производству париков и прочей волосяной дряни. У Олле то и дело возникали мысли об остриженных мертвецах и обнищавших девицах, которые продавали здесь косы. Ходили слухи, что Теодор приобрел здание по дешевке еще до революции: с тех пор как высокие парики вышли из моды, а дамы перестали цеплять на затылки завитые шиньоны, хозяин предпринял несколько попыток перестроить дело, но потерпел неудачу. Видимо, его банкротство было настолько оглушительным, что ему пришлось пойти на сделку с Худшим из Худших.
Несмотря на невзрачное название, Угол как нельзя лучше подходил для обитания Крысиного Короля и его своры: всем известно, что в париках водились полчища паразитов, от блох до мышей.
Парадный вход, разумеется, был заколочен, но каждый из свиты знал потайную дверь, утопленную в фундамент и скрытую за разросшимся орешником.
Даже несмотря на гигантский долг, Олле был мелкой сошкой, а потому был избавлен от необходимости каждый раз лично кланяться Теодору. Это было незначительным, но все же плюсом, и он предвкушал возвращение в свою каморку в портовой гостинице, где сможет запереть дверь.
Но кроме долга денежного, на него свалился еще и долг совершенно другого рода. Пару дней спустя после того, как его уволокли с пристани и король выколол ему глаз раскаленной спицей, он лежал лицом на жирной столешнице в подвальном баре. Он дожидался, когда его передадут с рук на руки будущему Псу. Бежать не хотелось, не хотелось жить. Теодор заявил, что люди из труппы Олле украли его деньги и теперь он должен отработать все до последнего гроша.
Что ни говори, а этот «двор под холмом» был богат на традиции. Каждого новичка необходимо покалечить, чтобы он по-тролльи окривел, и неважно, чего он лишится: пальца ли, глаза, уха. Что до должников, то деньги следовало отрабатывать согласно «контракту», а если ловкач умудрялся сбежать или умирал, несмотря на усилия надсмотрщика – Пса, – то последний наследовал весь долг. Неудивительно, что Анхен его не выносила.
В тот день он лежал, упершись лбом в согнутый локоть, стараясь отгородиться от раздражающе-тусклого масляного света и уродливых рож, мелькающих вокруг. Безумное подземелье, полное калек!
– Эй, ты, – раздалось откуда-то сверху. – Ты тот певец, который взорвал ратушу и отхватил куш? Папаша Теодор был в ярости!
– Не певец, драматург. И я был не один.
Меньше недели прошло, а казалось, что пропасть между «тогда» и «сейчас» не имеет дна.
– Начхать. Но ты хорош, – голос благодушно хохотнул. – Петь могешь?
Олле поднял голову и взглянул на собеседника. Оказалось, что местный бармен выбрался из-за стойки, чтобы познакомиться поближе.
– Петь, декламировать, жонглировать отрезанными носами, – огрызнулся Олле. – Или желаете оду вашему разбавленному пойлу?
– А ты не кривись, малой. – Бармена было не прошибить таким слабым выпадом. – Лучше подумай о том, что на тебя самого тут криво смотрят. И если тебе есть чем завоевать их, то поторопись. Ты же хочешь дожить до конца контракта?
Три года. Такой срок назначил Теодор. За это время с его труппой в Иберии могло случиться что угодно, но если он сам не выдержит испытания, то никогда их не увидит.
– Есть на чем играть?
– Скрипка была под стойкой. Поди сюда.
– А где скрипач? – Олле все никак не мог привыкнуть к необходимости поворачивать голову, чтобы оглядеться.
– Пристрелили. Кому-то померещилось, что песенка была про его мамашу.
– Опасно, однако!
– Разберешься! Держи, – с этими словами он вручил Олле скрипку и смычок.
Народу в этот час было совсем немного, всего около десятка. Миннезингер замечал их острые взгляды из-под козырьков кепок. Бармен был прав – он был выскочкой среди них, он щелкнул по слишком знатному носу и недостаточно был наказан за дерзость.
Однажды Вольфганг, изрядно накачавшись дешевым шнапсом, уверял его, что песня способна спасти человеку жизнь – нужно только выбрать правильную. В столице была одна такая, что звучала единым паролем, открывающим сердца мужчин и двери спален их женщин.
Ни о какой сцене не могло быть и речи, потому Олле умостился на тонконогом высоком стуле у стойки и приложил скрипку к подбородку. Ею явно кого-то колотили: у стыка деки с грифом пролегала трещина, из смычка торчал конский волос, не знавший канифоли. Олле играл на многих инструментах – но почти на всех плохо, просто ради личного знакомства с каждым. Но уж эту-то песню из восьми нот он сыграть способен!
– В Хестенбургском порту! – провозгласил он и вытянул из скрипки первый звук.
Любой ценитель прекрасного тут же выскочил бы в окно, зажимая кровоточащие уши, – расстроенные струны звучали вкривь и вкось. Но здесь был народ попроще: им хватало того, чтобы мелодия была узнаваемой. Сыграв вступление, знакомое каждому жителю столицы, Миннезингер запел:
В Хестенбургском портуТянут песнь моряки,В ней лелеют мечтуО ночи в том порту.В Хестенбургском портуВидят сны морякиБудто парус без ветраЯкорь тянет ко дну.В Хестенбургском портуМоряки подыхают,На рассвете пылаютВ душно-пьяном бреду.Но их жены в портуИм потомство рожают,А после в рейс провожаютВ Хестенбургском порту.
К концу первого куплета связки разогрелись и голос зазвучал глубже, мягче, хоть слова песни требовали напора и драмы. За трагизм в их дуэте отвечала искалеченная скрипка – она стенала и рыдала за двоих. Ко второму куплету Олле различил в зале подпевающие голоса.
Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 107