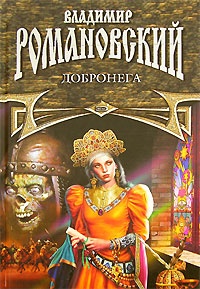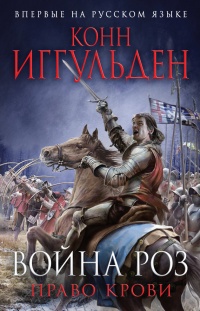— И не разговаривает, и очи не открывает, — добавила молочница.
— Совсем не открывает, — подтвердила прачка. — Лежит с закрытыми.
— Это вы шутите так? — спросил тиун, растерянно улыбаясь.
— Нет, — заверила его молочница.
— В саду она лежит?
— Нет. Мы ее в дом перенесли.
— Чтоб ее не украл никто, пока мы за помощью бегаем.
Тиун вошел в дом.
— А Сушка где, холопка наша? — спросил он, идя к спальне.
— А не знаем, тиун.
— Не знаем, кормилец.
Войдя в спальню и увидев жену, лежащую на ложе, с одной ногой, торчащей из-под покрывала, Тиун слегка оторопел, крякнул, и приблизился. Ноздри Певуньи раздувались, грудь вздымалась.
— Певунья, — позвал тиун, садясь рядом. — Эй, Певунья. А что это у нее дрянь всякая в волосах? — спросил он, оборачиваясь к женщинам.
— Не знаем, — сказала молочница искренне. — Вроде только что не было.
Прачка только мотнула головой.
Тиун приложил ладонь ко лбу жены. Лоб был горячий, а что из этого следовало — неизвестно. Он попробовал потрясти Певунью за плечо. Потряс. Никакой реакции.
— Может, ей воды на лицо-то полить, вот эдак? — предложила прачка, показывая, как надо лить воду на лицо.
— Зачем? — спросил тиун.
— Может, будет лучше.
— Нет, — подумав, сказал тиун. — По щеке не треснуть ли?
— Уж пробовали, — призналась прачка.
Молочница въехала ей локтем в бок, но было поздно.
— И что же? — спросил тиун.
— Ничего. Как видишь.
— Ладно, — сказал Пряха. — Вы давеча за лекарем бежали?
— За ним, тиун. За лекарем. Как же без лекаря. Без лекаря нельзя.
— За каким же? За Стожем или за Трувором?
— За Трувором.
— Хорошо. Бегите. Приведите Трувора.
Женщины переглянулись, повернулись, и вышли.
— А где этот Трувор живет, ты знаешь? — спросила прачка, когда они оказались на улице.
— Нет, — сказала молочница. — Ну, ничего, расспросим народ да найдем.
Тиун меж тем сделал было еще одну попытку растолкать жену, но тут его внимание привлекли какие-то передвижения и шумы в погребе, примыкающем к стене дома. Нахмурясь, Пакля поднялся и вышел в сад, к погребу. В погребе что-то грохотало и пищало. Не будучи по натуре суеверным, Пакля смело шагнул к погребу и отодвинул засов.
— Хо-хо! — залихватски приветствовали его из погреба. — Йех!
Он едва успел уклониться. Кувшин пролетел возле его головы и упал на траву. Затем пришлось уклоняться от летящего окорока.
— Эй! — потребовал тиун. — Кто тут? Прекрати!
— Ага! Хозяин пришел! А вот мы его бжевакой!
От бжеваки тиун увернуться не успел. Липкое сладкое месиво ударило ему в лицо. Отплевываясь, он отступил от двери.
— Сушка, ты, что ли? А выходи-ка на свет сейчас же!
— Пошел в хвиту!
Стерев рукавом бжеваку, Пакля быстро вошел в погреб и схватил Сушку за руку. Она попыталась свободной рукой расцарапать ему что-нибудь, но он быстро пошел к выходу, таща ее за собой, и это ей помешало.
Выйдя на свет, оба остановились. Сушка была пьяна в дым, улыбалась глупо и нагло. В одной рубахе — поневу она сняла в погребе зачем-то — встав перед тиуном, холопка подбоченилась, придала своим плохо повинующимся ей чертам подобие презрительного выражения, искривила пухлые губы, и сказала:
— Ну ты!…
— Иди в дом, — тихо и строго сказал тиун Пакля.
— Куда хочу, туда и пойду, — ответили ему. — А в следующий раз ко мне полезешь, я тебе хвой отрежу. А то супруга твоя пучеаресельная возмущается и безвинных женщин запирает в потьмах таврических. Тфу.
Она плюнула в него. Он успел отскочить.
— Ты ж не плюйся мне тут! — сказал он грозно. — Я человек общественной значимости! Как смеешь!
— Колдунья супруга твоя и хорла, — закричала очень громко Сушка. — Жирная хорла. И пьяница.
Схватив ее за предплечье, Пакля поволок Сушку к дому.
— Не толкайся, аспид! — скандально закричала она. — Ишь какой, толкается.
Она села на землю и икнула.
— Ой, — сказала Сушка. — Ха.
Он попытался снова ее схватить, но она брыкалась, падала на спину, и лягалась. Он хотел было взять ее за волосы, но она подняла такой визг, что Пакля испугался, что сейчас к нему в сад сбежится половина города. Не зная, что делать, он умылся около колодца, поглядывая на сидящую на траве Сушку, и вернулся в дом. Когда некоторое время спустя он снова вышел в сад, Сушки нигде не было видно.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
Все ставни распахнуты настежь.
По периметру Валхаллы горели факелы и хитрые светильники с таинственной смесью, дающей в дюжину раз больше света, чем обычное масло — изобретение местного дьякона. Злые языки поговаривали, что дьякон украл рецепт смеси из архива убитого волхва Семижена, на что крещеная часть верхнесосенного двора резонно возражала — мол, доказательств того, чтобы хотя бы один из рецептов Семижена когда-либо был успешно использован хотя бы самим Семиженом — нет, равно как и нет доказательств, что у Семижена вообще были какие-либо рецепты, в то время как дьякон прибыл из Александрии три года назад — в самый разгар новых экспериментов с «греческим огнем» в египетской столице. Время было — за полночь, а нарядная, веселая, пьющая толпа расходиться не собиралась. Во-первых, было весело, а во-вторых, все ждали Валко — восходящую звезду гуслино-былинного жанра, польских кровей и псковского происхождения. Помимо собственно сочинительских и певческих талантов, Валко-поляк, выросший в самом в то время грамотном городе Севера, чуть ли не первый и единственный начал записывать, а затем и редактировать, собственные тексты, что благотворно сказалось на качестве его выступлений. Сгладились и ушли корявости, длинноты, и непомерно скучные, занудливые пассажи, всегда сопутствующие импровизации. Выступление Валко планировалось на два часа пополуночи.
Певцы, гусляры и скоморохи, выступавшие в те вечер и ночь, прекрасно понимали, что призваны просто заполнить время до прибытия знаменитости, и ненавидели эту знаменитость люто.
Наступил черед особого номера, который одна из скоморошьих трупп готовила весь предыдущий месяц — миниатюра с плясками. Уже накануне выступления в труппе начался разлад и разнобой. Оба гусляра поссорились между собой и, отдельно, с хозяином труппы, и уехали в Ладогу. Хозяину пришлось срочно договариваться с постоянными гуслярами Валхаллы, которые артачились и отнекивались, но все же согласились провести одну репетицию. На то, чтобы в ходе оной репетиции они запомнили, что и когда нужно играть, когда вступать, когда умолкать, особо надеяться не приходилось.