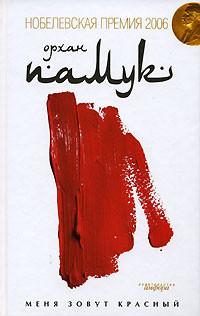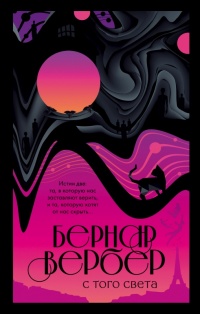«Бросай, или бросят тебя. Правила боя просты».
Пот прошибает меня по всему телу, неконтролируемый приток пота, как будто меня сейчас стошнит.
«Он все испортит».
И я понимаю, что она права. В буквальном смысле слова Сол ничего не испортит, то есть в отношениях между ним и мной, но есть еще отношения между мной и ею. Если я впущу его, я выпущу ее. В конце концов, я должна буду прекратить ее педантичный контроль за тем, что я ем, что говорю и делаю. Это же и есть отношения, не так ли? Когда идешь на уступки ради другого. Я понимаю, что вещи, которые я считала безопасными, на самом деле опасны. Разве так же было с Ив? Плавный изгиб ее живота, тепло ее соска, идеальный ритм наших шагов на асфальте и то, как наши тела подходили друг другу, когда мы спали, все это обладало обманчивой гармонией, потому что в действительности мы были безрассудны и неопытны, и даже спокойные минуты, проведенные вместе, казались опасными и скоротечными.
«Любовь проходит, верно?»
Я вытягиваю из кармана вялую сигарету и думаю: разве не ради этого я работала в клинике долгие недели, не ради того, чтобы сломать однообразие контролируемых дней, освободиться от ее жеманной жестокости, ее пощечин на моем лице? Но как я могу открыться перед Солом, когда что-то во мне цепляется за регламентированный покой, за то, чтобы меня контролировал и проверял невозможный надсмотрщик, желающий превратить меня в крохотный клочок костного мозга; когда я такая худая, что дальше некуда, никто не может меня обидеть.
Но вот же его губы, изогнутые в виде сердца, когда он рассказывает анекдот, его курчавые волосы, тонкие изящные брови, из-за которых он выглядит театральным, мелодраматичным. Вот то, как он смотрит на меня иногда, думая, что я не замечаю, как будто дает обещание или молится.
Сол другой. Он не Ив и не Томас, он сам по себе. Что есть такого в его уникальности, чтобы заставить меня верить в то, что любовь всех нас сделает лучше? Может быть, Сол перестанет так много пить, начнет больше спать, я наберу несколько килограммов, мы будем выглядеть не такими отмеченными жизнью, не такими изможденными. Или, может, мы вообще не изменимся, я не знаю.
«Вот! Ты не знаешь, чувства меняются. Каждый день».
Но ей невозможно ничего объяснить; у нее все должно быть конкретным. Мы должны полагаться только на свою способность набрасываться, атаковать и выживать за счет охоты на остальных, на скудную избранную дичь. И все-таки она стала необычно молчаливой, вдруг стала слушать.
Я возвращаюсь к дому по серым улицам. В домах работают телевизоры. Они освещают гостиные голубоватым светом. День остывает, тротуары пахнут жевательной резинкой и свежепостриженной травой, и мне безопасно и этом странном мире пригорода, окруженном блестящими иностранными машинами и нелепыми садовыми украшениями в виде гномов; если бы я захотела, мне никогда не пришлось бы отсюда уехать.
Но она не может просто позволить мне жить в свое удовольствие, не может позволить мне ехать на обмане по гудронированной дорожке в трещинах, которую Томас чинил в последний раз еще в семидесятых.
И тут слова из уголка ее рта, невольные, как плохо замаскированный кашель курильщика:
«Только помни, что для тебя любовь всегда предательство».
Глава 22
Я сижу у дождевателя, отколупываю кожу с ног, чтобы потом надеть носки. Подъезжает Сол. Я чешу ребра, которые еще болят, но это приятная боль выздоровления. Я крепко завязываю шнурки. Сол выходит из машины и становится надо мной.
– Собираешься на пробежку?
– Ага.
– А где твоя сестра?
– Не знаю.
Он снимает солнечные очки и смотрит на улицу, как будто ждет, что Жизель материализуется из тихих пригородных газонов. Его взъерошенный профиль наклоняется к его же длинной летней тени, и па секунду он кажется нерешительным, растерянным.
– Не возражаешь, если я пробегусь с тобой?
– Тебе нужны кроссовки, в этих ботинках не побегаешь.
Он смотрит на пыльные ботинки.
– Подожди.
Я вхожу в дом и нахожу любимые папины тенниски, зарытые под кипой ботинок, газет и зонтов. «Стэн Смит».
Я выхожу из дома, а Сол поливает каких-то ребятишек из дождевателя. Я протягиваю ему кроссовки. От него пахнет маслом сандалового дерева.
– Здесь нет поддержки для стопы, но это лучше, чем ничего.
– Спасибо. Послушай, Холли. она не звонила, не передавала чего-нибудь? Мы должны были встретиться после работы…
Я качаю головой и гляжу, как он наклоняется, чтобы завязать шнурки, и мне хочется дотронуться до его волос.
– Разве тебе не нужно быть в школе? – Брови Сола съехались у переносицы.
Я пожимаю плечами:
– Сегодня последний день.
– А…
Сол чуть хмурится, разминая ноги.
Он выбегает впереди меня, уверенно перепрыгивает через канавы в кроссовках покойника. Я бегу за ним, считая шаги между нами, собираюсь догнать, но сдерживаю себя, потому что я хочу бежать долго, пока время измеряются тротуарами, пустыми улицами и одинаковыми, выученными наизусть домами. И я думаю: «Сегодня последний день школы, и я, как обычно, прогуливаю». И еще я думаю, посылаю ей тайную телеграмму, чтобы она зажала уши.
Мы движемся, как лунный свет на волнах. Пробегаем через теннисный корт, и Сол нарочно цепляется за сетку.
– Господи, стой! Мне надо передохнуть!
Я делаю колесо вдоль линии разметки, мотыльки кружат в розовом флуоресцентном свете, и пара не первой молодости не может решить, то ли смеяться над нами, то ли ругаться на нас. Мотыльки взрываются пыльными облачками, пыль на их крылышках летит в белый воздух, а пара пытается выяснить счет:
– Тридцать-ноль или сорок?
Сол красный и потный. Он перепрыгивает через сетку и выбегает на корт.
– Бежим до «Дэйри куин». Кто прибежит последний, платит.
– Идет.
И я бегу, легко обгоняю его на длину спящего кита, которому снятся плавные подачи и желтые мячи, вылетающие за пределы поля.
Когда мы возвращаемся, в доме темно. Сол открывает все окна на кухне и просматривает полки в поисках чего-нибудь съестного.
– Эй, у тебя мама когда-нибудь ходит в магазин? Как тебе консервированный суп с моллюсками и крекеры, а, Хол?
– Отлично.
Он включает радио, там играет джаз.
– Ну, как ты поживаешь? Попадала еще в какие-нибудь драки?
Он смотрит мне в лицо, решая, можно ли ему улыбнуться. Я разрешаю.
– Ну, в общем, у нас в школе привыкли нас выставлять. Когда Жиззи было семь лет, ее отправили домой с запиской, где говорилось, что мама должна ее причесать. Однажды меня отправили домой за то, что я пришла без белья.