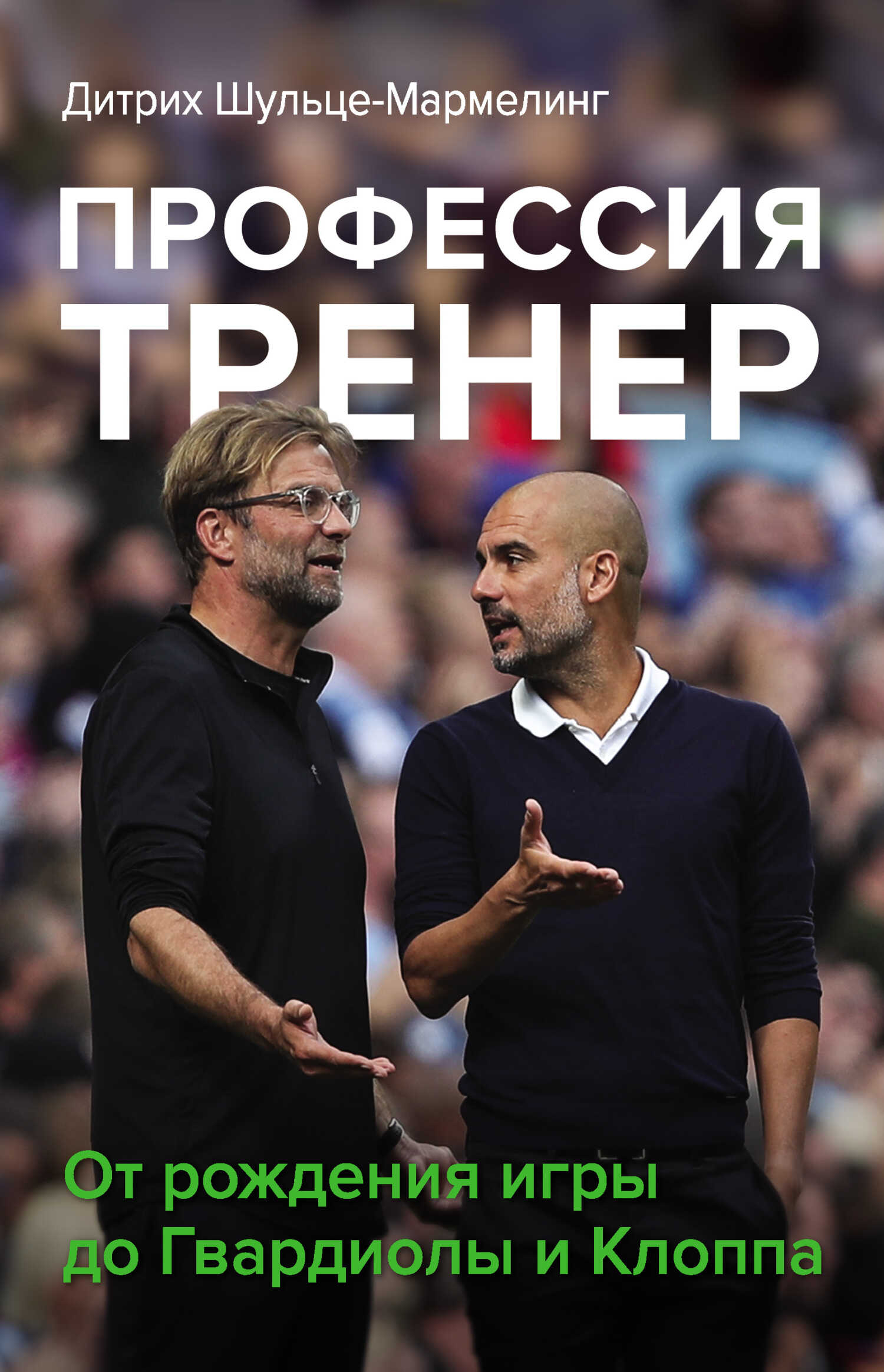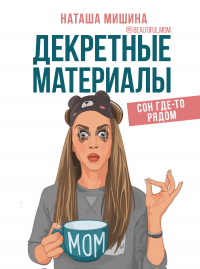Так мы «герметично запечатали» себя в маленькой комнате, служившей одновременно спальней, столовой, кухней, гостиной, чуланом и кладовкой. Центром притяжения была газовая плитка, у которой мы сидели, воображая, как станет тепло, когда мы ее зажжем. В день можно было потратить газа только на шиллинг – благодаря такому ограничению можно было протянуть двадцать дней на фунт.
Единственная проблема заключалась в том, что, даже израсходовав минимум газа на приготовление ужина, мы все равно могли позволить себе только пару часов тепла. К тому моменту почти весь кислород в нашей каморке заканчивался, у нас начинались головные боли и единственно верным решением казалось возвращаться в ледяную постель, которую мы пока что были способны согреть теплом своих тел. Так проходил каждый наш вечер.
Но, пока плитка шипела, пламя отдавало свое тепло, а наши пальцы медленно оттаивали, можно было и поговорить. Почти каждая беседа сводилась к планам на будущее и мечтам о нем. Стоит мне только получить кандидатскую степень – возможно, уже через пять лет, – как мы сможем поехать в X. Или в Y. Или и туда и туда. А потом – в Z. Куда бы мы ни отправились, там будет чудесно.
По необходимости наш разговор возвращался иногда к испытаниям и злоключениям настоящего. Мы оказались – это стало очевидно – предоставлены сами себе. Как и предсказывала мать, многочисленная родня быстро и безжалостно обрезала все ниточки, связывающие ее с белой (точнее, радужной) вороной.
Тогда я понял, что часть меня жила надеждой: не могут же все до единого так неумолимо и жестоко подвергнуть члена семьи остракизму! Я ошибался. Больно было осознавать это, но еще больнее было родителям. Им пришлось терпеть жалость окружающих.
– Не поняли, что потеряли, – подытожил Франсис.
– Они любили того, кого не знали. Не меня. И заботились не обо мне. Так что я ничего не потерял. К тому же папа и мама ведут себя цивилизованно.
– Они были очень милы. Особенно учитывая…
Спустя некоторое время мы возобновили дипломатические отношения с родителями: нас с Франсисом осторожно пригласили на чай в Уимблдон. Все прошло очень культурно, мама поставила на стол прекрасный чайный сервиз из китайского фарфора, георгианский чайник и капкейки (не знаю, понимала ли она иронию)[11]. За фасадом крайней вежливости мои родители скрывали бездну неловкости, но долг требовал хотя бы попытаться. Так что у нас оставалась надежда.
– Теперь мы против всего мира, – заключил я. – Franciscus Petrusque contra mundum!
Так звучала первая часть нашей мантры: «Франсис и Питер против всего мира».
– И миру лучше бы поостеречься!
– Coniuncti vincemus! – провозгласил я. Наш боевой клич – «Вместе мы победим».
Одним из ключевых преимуществ нашей мансарды было ее расположение: мы жили в нищете, зато в самом центре Лондона. Оттуда можно было дойти куда угодно. Так и вышло, что в новогоднюю ночь мы шли по Риджентс-стрит к толпе, собирающейся на Трафальгарской площади отметить наступление не просто нового года, а нового десятилетия. Настроение у нас обоих было великолепное. И шли мы держась за руки. Невиданное зрелище: нам мужчины, держащиеся за руки, не встречались, поэтому такой способ вступить в восьмидесятые выглядел довольно революционным.
Вместе с толпой мы ждали, когда пробьет полночь. Я тщательно настроил часы, ориентируясь на сигнал перед шестичасовыми новостями, и, если верить им, до начала следующего десятилетия оставалась еще минута. Компания гуляк неподалеку уже начала выкрикивать поздравления. Но я знал: они ошибаются. Время еще есть.
Мне казалось очень важным облечь в слова ощущение, которое росло внутри последние девять месяцев. К моменту встречи с Франсисом я сражался один так долго, что уверовал – хотя бы ради поддержания боевого духа – в то, что могу всего достичь сам. С шестнадцати лет я гордился тем, что могу завоевать кого угодно. Что угодно. Один.
Но по мере того, как Франсис сглаживал острые углы моего характера и заполнял самые вопиющие пробелы в моих житейских познаниях, я начинал понимать, насколько ограниченным было мое взаимодействие с миром. Осознание того, насколько слаб, беспомощен и предвзят я был на самом деле, стало моим главным переживанием за последние полгода. В некотором роде с этим озарением я терял один из слоев защиты. Но, когда оно укоренилось у меня внутри, глубинный смысл дальнейшего существования вышел на поверхность. И это было самое ненаучное, самое человечное, самое важное решение в моей жизни.
Речь больше не шла просто о том, чтобы быть с Франсисом, признав его родственной душой и понимая: он стоит любых жертв. Даже не просто о том, чтобы избавиться от впечатляющих защитных механизмов, которые я строил с самого детства, добровольно стать уязвимым, открытым к переменам. Нет, мое жизненно важное решение заключалось прежде всего в том, чтобы охотно изменить себя и слиться с Франсисом как с равным, частью меня и частью его. Стать бóльшим, чем просто двое. Стать единым целым.
От года, когда мы встретились, оставалось всего несколько секунд, и я попытался вложить всю эту логическую цепочку в обращенные к Франсису слова:
– Всегда помни: один я – ничто. Но, что бы ни уготовила нам Вселенная, вместе мы непобедимы!
Дартмур
Сначала у меня чуть-чуть запершило в горле, неожиданно, безо всякой причины. О таких вещах даже не задумываешься: покашляешь и пройдет. Мы как раз миновали Хейтор-Рокс и теперь медленно ехали вниз по склону, мимо редких пасущихся пони. Прямо до горизонта расстилались просторы Дартмура: зеленые пустоши с редкими желтыми всполохами цветов дрока, фиолетовыми – вереска и островками папоротника, укрытые куполом сияющего голубизной безоблачного неба. Я прокашлялся.
Першение никуда не делось. Интересно, там, впереди, пять коров или пять пони? Я прокашлялся. Все-таки пони: уже отсюда можно различить шеи. Я прокашлялся. Ого, даже новорожденный жеребенок! Я прокашлялся. В горле все еще першило – наверное, слюна попала или что-то вроде. В попытке исправить положение я воспользовался проверенным веками способом – прочистил горло со звуком, которым почтительные слуги пытались привлечь внимание хозяев. Но и это не помогло.
Не прошло и минуты, а я уже бесконтрольно покашливал каждые несколько секунд.
– Ты в порядке? – в голосе Франсиса удивления было больше, чем беспокойства.
– Я не могу…
Попытавшись ответить, я совершил чудовищную ошибку. До этого момента мне хватало нескольких секунд между приступами кашля, чтобы вдохнуть и закашляться снова. Это поддерживало хрупкий баланс. Но слова израсходовали драгоценное время между спазмами, а я потратил больше воздуха, чем у меня было. А потом, не успев вздохнуть, снова закашлялся. Каждый раз – по два «кхе-кхе», контролировать невозможно. Но в легких у меня и так уже было пусто. Инстинкты взяли верх: я попытался глотнуть еще немного кислорода. Не вышло.