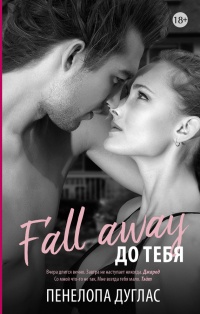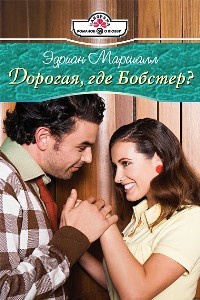Потом от него повеяло холодком Он как будто прятался за завесой отчужденности, стесняясь того, что слишком открылся мне.
Я лежала, прижимаясь к нему, среди смятых и влажных простыней. Мои руки обнимали его. Губы лениво блуждали по его загривку. Я первой нарушила молчание, длившееся вот уже час.
Я никогда не выпущу тебя из этой постели.
Это обещание? — спросил он.
Хуже, — сказала я. — Клятва.
Это уже серьезно.
Любовь — дело серьезное, мистер Малоун.
Он повернулся ко мне:
Можно ли считать это объяснением в любви, мисс Смайт?
Да, мистер Малоун. Именно так. Мои карты, что называется, открыты. Это пугает тебя?
Наоборот… Я не собираюсь выпускать тебя из этой постели.
Это обещание?
На ближайшие четыре часа — да.
А потом?
А потом я снова стану собственностью американской армии, которая в настоящий момент задает курс моей жизни.
Даже в вопросах любви?
Нет, любовь — это не подконтрольная им территория.
Мы снова замолчали.
Я вернусь, — наконец произнес он.
Я знаю, — сказала я. — Если ты выжил на войне, то справишься и с восстановлением мирового порядка. Вопрос в другом: вернешься ли ты ко мне?
Едва я произнесла эту фразу, как тотчас возненавидела себя за это.
Послушай, — поспешно сказала я. — Наверное, это звучит так, словно я предъявляю какие-то права на тебя. Извини, я глупая.
Он крепче прижал меня к себе.
Ты не просто глупая, — сказал он. — Ты глупая по определению.
Зря смеешься, парень из Бруклина, — шутливо произнесла я, целясь ему в грудь пальцем. — Я не так-то легко отдаю свое сердце.
Нисколько не сомневаюсь в этом, — сказал он, покрывая поцелуями мое лицо. — И можешь не верить, но я тоже.
Там, в Бруклине, ты случайно не прячешь какую-нибудь девчонку?
Нет. Даю слово.
А может, какая-нибудь фрейлейн ждет тебя в Мюнхене?
Опять мимо.
Наверное, Европа манит тебя своей романтикой…
Молчание. Как же я злилась на себя за свой острый язык. Джек улыбнулся:
Я знаю, знаю. Просто… Черт возьми, это же несправедливо, что завтра ты уезжаешь.
Послушай, если бы я встретил тебя два дня назад, я бы ни за что не подписался на эту командировку…
Но мы встретились не два дня назад. Мы встретились сегодня И вот теперь…
Речь всего лишь о девяти месяцах, не больше. Первого сентября тысяча девятьсот сорок шестого года я — дома.
Но ты найдешь меня?
Сара, я собираюсь писать тебе каждый день на протяжение этих девяти месяцев…
Да ладно, это уж ты замахнулся. Можно и через день.
Если я захочу писать тебе каждый день, я буду писать каждый день.
Обещаешь?
Обещаю, — сказал он. — А ты будешь здесь, когда я вернусь?
Ты же знаешь, что буду.
Вы просто прелесть, мисс Смайт.
Вы тоже, мистер Малоун.
Я опрокинула его на спину, села верхом на него. На этот раз мы уже были уже не такими робкими и неуклюжими. Напротив, мы потеряли всякий стыд. Хотя, признаюсь, мне было очень страшна. Ведь только что я отдала свое сердце незнакомцу… который к тому же собирался за океан на целых девять месяцев. Как бы я ни старалась заглушить в себе эту боль, я знала, что она будет невыносимой.
Ночь растаяла. Сквозь шторы пробивался тусклый свет. Я покосилась на будильник, что стоял на прикроватной тумбочке. Семь сорок. Инстинктивно я крепче прижала его к себе.
Я кое-что решила, — сказала я.
Что?
Оставить тебя своим пленником на следующие девять месяцев.
А потом, когда ты меня отпустишь, армия засадит меня в тюрьму еще на пару лет.
Ну, по крайней мере, ты будешь в моем полном распоряжении целых девять месяцев.
Через девять месяцев ты сможешь держать меня возле себя, сколько пожелаешь.
Хочется верить.
Верь.
Он спрыгнул с постели и принялся собирать раскиданную по полу одежду.
Мне пора.
Я провожу тебя до верфи, — сказала я.
Это не обязательно…
Обязательно. Еще целый час я смогу быть с тобой.
Он потянулся и взял меня за руку.
Туда долго ехать на метро, — сказал он. — И это все-таки Бруклин.
Ты стоишь того, чтобы ради тебя совершить поездку в Бруклин, — ответила я.
Мы оделись. Я засыпала кофе «Максвелл Хаус» в свой крохотный кофейник и поставила его на огонь. Когда коричневая жидкость закипела и грозно вспучилась, я разлила кофе по чашкам. Мы чокнулись, но ничего не сказали. Кофе был жидким и безвкусным. Хватило минуты, чтобы проглотить его. Джек посмотрел на меня.
Пора, — сказал он.
Мы вышли из квартиры. Утро Дня благодарения 1945 года было холодным и ясным. Слишком ясным для двух влюбленных, которые ночью не сомкнули глаз. Мы щурились всю дорогу до станции метро Шеридан-сквер. Поезд на Бруклин был пустым. Пока он мчался по Нижнему Манхэттену, мы сидели молча, прижавшись друг к другу. Как только пересекли Ист-Ривер, я сказала:
У меня нет твоего адреса.
Джек достал из кармана два спичечных коробка. Один вручил мне. Потом вынул из нагрудного кармана огрызок карандаша. Лизнув грифель, он нацарапал на картонке коробка армейский почтовый адрес и передал мне. Я написала свой адрес на другом коробке, который он тотчас положил в карман рубашки, застегнув для верности на пуговицу.
Только попробуй потерять, — сказала я.
Теперь это моя самая ценная вещь. А ты будешь мне писать?
Постоянно.
Поезд все мчался по дну реки, а потом по подземному Бруклину. Когда он остановился на станции Баро-Холл, Джек сказал:
Вот мы и приехали.
Мы снова выбрались на свет, прямо по соседству с верфями. Нас окружал унылый заводской пейзаж, в доках стояли фрегаты и боевые корабли. Все они были выкрашены в серый цвет, цвет морских баталий. Мы оказались не единственной парочкой у ворот верфи. Таких было шесть или семь. Одни обнимались у фонарного столба, другие шептали прощальные заверения в любви или просто смотрели друг на друга.
Похоже, мы не одиноки, — сказала я.
В этом проблема армии, — сказал он. — Никакой личной жизни.
Мы остановились. Я развернула его к себе: