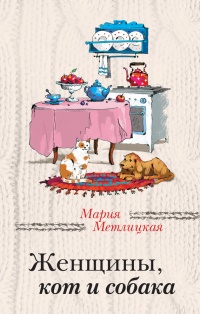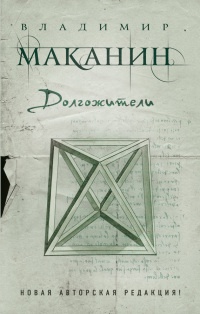Я был забрызган с головы до ног, и мальчики кровавые, конечно. Хотелось самому под пулеметы, уже не за идею ни за какую, а чтобы забыться, ничего не помнить, не соприкасаться ни с чем. Несколько дней, запершись, просидел в пустой квартире. На звонки не отвечал. К телефону не подходил. Купался в ванной и читал Кэнко-Хоси.
Лишь однажды я собрался с духом, вышел из дома, поехал к Марине. Дверь никто не открыл. Должно быть, все жильцы, да и она сама, отдыхали на даче. Август был теплый, необыкновенно цветущий, римский чувственный август. Но не для меня.
Я прятался от жары в полумраке прохладной квартиры. Стоило выйти на улицу — задыхался, ощущая в легких сухой осадок; дурел, будто пыль героина была на ветру в сером воздухе города. Невидимая паутина — я не мог ее стереть, содрать — липко охватывала лицо, как в прозрачном лесу. Прилипала. И прикосновения рук воспринимались, как сквозь нитяные перчатки.
Мимо мелькала медленно вереница машин в сизом облаке отработанного газа. Звон трамвая выбивал из одурманивающего сна-бега. Выпорхнув из-под колес, я метался между рельсовыми путями у моста через Карповку: «Идти на студию, не идти?». Велик соблазн был бросить все и развязаться одним махом. Но казалось, столько неприятностей рухнет сразу. Людей подведешь. Ведь я уже и не себе принадлежал — договор. Некогда было чувствовать. Мысли, самые яркие, не вызывали эмоций. Да и о каких эмоциях говорить, если известие о собственной смерти я воспринял, как будничную информацию из газет.
В оглушительный, потный и пыльный, в душный августовский полдень, на углу запруженного автомобилями проспекта и улицы Чапыгина, я направился к проходной телецентра, когда, скрипнув тормозами, вильнув задними колесами, меня объехал юркий «жигуленок» цвета белая ночь. Из распахнутой дверцы просунулось испуганное лицо приятеля.
— Ты?
Он неуверенно потрогал меня пальцем, пощупал ткань пиджака, когда я подошел поздороваться.
— Тебя ведь это… — сказал он. — Похоронили?!
— …!?
— Недели две или три, — перебирая события, в числе которых были и мои похороны, пробормотал он. — Дней девять прошло.
— Что значит похоронили? Зачем?
— Так ведь разбился, — уверенно объяснил приятель. — Ночью, на Петроградской… «Волга» въехала в магазин.
— Такси? — смутно припоминая, переспросил я.
— Такси-шмакси… Сказали, скончался, не приходя в сознание, в больнице Эрисмана.
— На похороны-то ходил? — поинтересовался я.
— Да мы, это самое, собирались с Надей, — засмущался приятель. — Только как раз… Понимаешь, в тот день… Но отметили, ты не думай!
— Ладно, — отбросив ехидство, перебил я его. — Сам не пошел бы в такую жару.
— Это на собственные-то похороны!
— Ну и что? Тем более.
— Послушай, — он опять потрогал мой пиджак. — Знаешь, я рад. Нет, серьезно… Вот Надюха обрадуется!
— А что, говорят об этом? Знают?
Приятель поморщился, припоминая. И усмехнулся:
— Нормальный был парень… Что еще?
Значит, похоронили меня. Закопали, продолжал думать я, по инерции шагая к проходной телецентра. Здорово шутят. О подобных историях я знал понаслышке. Читал. Если кому рассказать — не поверят. Сам не поверил бы, что со мной такое может случиться. Не смешная какая-то шутка, маме не позвонили бы — напугают, подумал я о соболезнователях. И понял: мне самому, потому что покойному, никто не звонил (разве что с телевидения), и вспомнил смущенную физиономию приятеля.
— Понимаешь, многие после похорон узнали, чего уж тут трезвонить — близких твоих лишний раз травмировать, — бормотал он, усаживаясь за руль, беспокойно ерзал на сиденье, в глаза не смотрел, торопился. — Посмеются, когда расскажу! Ты это, не пропадай. Надо отметить воскрешение, а?
Значит, нет меня… — обиделся я, медленно постигая нелепость и детскость своей обиды. Обижаться из-за такой ерунды инфантильно, а в понимании нашего круга происшествие это было анекдотом. Для большей части дружков меня на сегодняшний день просто нет. И не будет. То есть, пока новоявленный свидетель воскрешения на «жигуленке» новость по городу не развез.
Я глянул на безликий, гладко оштукатуренный, словно бы в архитектурной спецовке, фасад телецентра. Ничего не изменилось. И не изменится. Смерть и воскрешение — просто повод собраться, выпить.
Стоило ли воскресать?.. — подумал я и остановился перед массивной дверью, собираясь с духом, чтобы толкнуть.
Перед любой проходной, перед каждым пропускным пунктом, всякий раз у меня начинало сосать под ложечкой: а ну как остановят? не пустят? И казалось: изо всех окон смотрят, пялятся на меня. Но никому нет дела ни до смерти моей, ни до воскрешения. Стоило ли воскресать — вот что! Вот в чем загвоздка. А если так, то и не черт ли мне эти лупоглазые окна. Даже если бы я умер перед входом, под окнами, — это прежде всего было бы нарушением общественного порядка, а потом смертью.
Дверь распахнулась сама и выпустила двух молоденьких теледевочек в одинаково скроенных юбках, в башмаках на одинаково модной платформе, с одинаково розовыми улыбками, словно фирменная эмблема у каждой на лице — TV. Ниша входа дохнула прохладой, но отнюдь не освежающей, а мертвенной, дохлой прохладой.
Как из могилы, подумал я, действительно, кладбище. И представил: знакомые коридоры, низкие потолки, бесконечные двери, полумрак и призраки бесшумные на мягком полу. Призраки торопливо сновали в миражах пустых забот. Сколько на этом деле молодых купилось.
Втянув голову в плечи, я торопливо перешел на противоположную, освещенную ярким солнцем, жаркую сторону улицы и заспешил к проспекту, откуда сквозняком в переулок плыла за сверкающими машинами, распространялась удушливая вонь. Прочь.
2
Событию этому предшествовало некое знакомство. Встреча. Точнее — несчастный случай.
Подступает к горлу потребность покаяться. Поведать. Поделиться. Освободиться от греха. Переложить его тяжесть на душу читателя. Притиснула необходимость: я ее осознал. Переплетаясь с композиционной и сюжетной задачей, — по-видимому, то и другое внутренне глубоко взаимоувязано в жизни, сутью которой является язык, — она, несколько подавленная (прямо теперь) конструкцией фразы, эта подлинная моя потребность принуждает меня отступить во времени. Продвинуться вспять. И поведать.
Но безумие… Только в слове, в королевстве слов и синтаксических ландшафтов возможно такое безумие. Ибо что может быть нелепей надуманной машины времени. Ведь возвращаясь в прошлое из действительной, тривиальной, до пошлости материальной жизни, мы попадаем в прожитое мгновение (пусть всего несколько часов тому) уже в новом качестве, уже развращенные струей истекшего времени, — попадаем необратимо измененными. Как же быть обладателям опыта и знания о прожитом моменте, приобретенных в истраченное мгновенье, как сочетать им свой опыт с тем наивным, трогательно беззащитным, самим моментом, когда они еще ничего не ведали, не испытали, находились в ином, не измененном качестве?