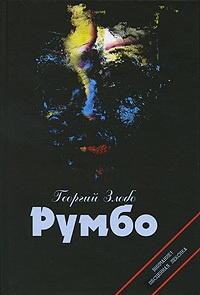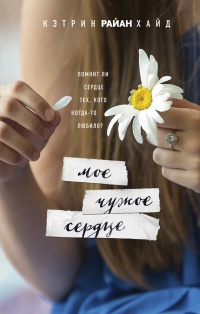— От кого — от нас — тебя тошнит?
— От всех, кого ты называешь «мы».
Наевшись пирожков и тушеных жаб, Нора и Толик помирились и понесли остатки в общежитие — кормить Педро и Димку. В парке на спинках лавочек гнездились недобрые гопники с бутылками «Балтики девять».
Солнце пятнами освещало парк, бликуя в люрексе спортивных штанов и в плевках, покрывавших прогулочные дорожки. По дорожкам c независимым видом дефилировали мамаши с колясками. Гопников они побаивались.
На очень высоких каблуках, с непривычки не до конца выпрямляя ноги в коленях, прошла, покачиваясь, созревшая школьница.
— Позырь, какие дойки! — сказал кто-то нарочно громко, и лавочка загоготала.
— Приколись, они больше, чем твоя башка, Вован, ты понял?
Вован громко свистнул. Школьница была очевидно довольна произведенным эффектом, но сдержалась и сохранила голову в исходном надменном положении, продемонстрировав безупречное владение главным навыком из всего того, чему девушки учатся в старших классах: они учатся не оборачиваться на свист.
Нора посмотрела на бритый затылок и спортивные шорты Толика. «Ну и чем он от них отличается? А ничем», — подумала Нора и вспомнила прищуренный взгляд Бориса и его широкие руки. Чтобы об этом не думать, она сказала Толику первое, что пришло в голову:
— Педро говорит, что слово «лавочка» произошло от слова love. Потому что на лавочках все целуются и трахаются.
— Раз Педро так говорит, значит, так оно и есть.
— Слушай, тебе не кажется, что Димка очень странный в последнее время? — вспомнила Нора. — Мне кажется, он вообще не спит. Ворочается все время. Я, когда в туалет выходила, смотрю: у него глаза открыты. И блестят дико. Я чуть не закричала.
— Да он, наверно, дрочит там просто под одеялом. Подслушивает и дрочит, — сказал Толик.
— Да нет, я серьезно. Почему он такой мрачный?
— Понятия не имею. Наверно, просто он до сих пор тебя любит. А меня, соответственно, ненавидит.
— Я думаю, что меня он тоже ненавидит. Я его даже немножко боюсь, — сказала Нора.
Они прошли мимо пары целующихся голубей, прямо возле которых валялся пьяный бомж. Нора ушла вперед, а Толик остановился, чтобы прикурить у прохожего сигарету.
Вдруг Нора услышала, как Толик громко и болезненно крикнул: «Еб твою мать!»
Нора испуганно обернулась. Толик навис над скамейкой и то нагибался к мычащему бомжу, то брезгливо выпрямлялся. Лицо у Толика было странное — как будто он или сейчас заплачет, или кого-нибудь убьет.
Под лавочкой, в луже мочи, с разбитой губой и бровью валялся профессор, большой знаток Еврипида, любимый студентами Зевс.
— Ты про фашизм говорила? — с судорогой спросил Толик, показывая на Зевса. — Вот это и есть фашизм, Нора! То, что сучья эрэфия сделала с Зевсом — вот это, блядь, реальный фашизм!
Нора подошла ближе, посмотрела на Зевса и отвернулась.
— Ужасно, — сказала она почти шепотом. — Но все равно нельзя так говорить про свою страну.
— А это не моя страна. Это твоя страна. Моя страна — Россия. А твоя — эрэфия, — сказал Толик и сплюнул.
К вечеру небо несколько раз сжималось и замирало, как будто собиралось чихнуть. И наконец чихнуло — пошел первый за месяц жиденький дождь. Осень была неотвратима.
Комната триста пятнадцать снова запахла сыростью. В ее темноте белела красивая задница Толика и смуглело среди бритых пшеничных колючек его открытое синеглазое лицо, похожее на открытые синеглазые лица поющих мальчиков из «Кабаре».
* * *
С рассвета и до заката вещевой рынок, который в Норином городе называли толчком, кудахтал, как курятник во время кормежки. Со всех сторон из динамиков под одинаковые мелодии много талдычили про любовь и чуть-чуть про тюрьму. На земле скрипели обломки разного хлама. Пахло жидкостью для снятия лака и пережаренным маслом. Продавщицы в спортивных костюмах провожали первого покупателя льстивыми комплиментами, крестили его деньги и водили ими по остальному товару — чтобы привлечь удачу.
За жестяным прилавком доцент Виолетта Альбертовна продавала позолоченные трусы.
Виолетта Альбертовна одна воспитывала двадцатипятилетнего сына. Сын был бездельник и хам. Поэтому Виолетта Албертовна на каникулах ездила в Польшу за позолоченными трусами, а потом продавала их на толчке в свободное от СРЯ время. Деньги она отдавала бездельнику.
— Иначе пойдет воровать, — говорила Виолетта Альбертовна. — Мне же дороже выйдет — ментам и судьям платить. И почему я не родила дочку? Лучше уж доставать дочку из кустов, чем сына из тюрьмы.
Надо было слышать, как доцент Виолетта Альбертовна врала покупателям про свой товар. Ходит по ряду придирчивая матрона, прижимает к груди кошелек. Подходит к Виолетте Альбертовне и тычет пальцем в желтый квадратный костюмчик, такой же, как восемь других ее желтых квадратных костюмчиков.
— Италия? — с недовольным видом спрашивает матрона.
— Конечно, Италия! — отвечает Виолетта А льбертовна с отрепетированным энтузиазмом. И та, и другая, конечно, знают, что Италия там и рядом не валялась, как выражалась Виолетта А льбертовна.
Матрона подолгу вертит в руках квадратный костюмчик, проверяя швы. Потом идет примерять. На время примерки Виолетта Альбертовна, растопырив руками плед, прикрывает тело матроны от посторонних глаз. От этого у нее затекают руки.
В конце концов, матрона появляется из-под пледа, поправляя лифчик, с безразличным видом, чтобы продавщица вдруг не подумала, что костюмчик матроне понравился.
— Ну, это, конечно, не Италия, а галимый Китай, — сообщает матрона, бросая костюм на прилавок.
— Какой Китай, ты посмотри, там написано «мэйд ин Италия» — защищается Виолетта Альбертовна.
— Ой, на заборе тоже кое-что написано, и что?
— Да я тебе сыном клянусь, что Италия! Я весь товар сама вожу из Милана, ты мне не веришь, что ли?
— Ой, да ты клянись кому другому. Швы кривые, а она мне чешет — Италия!
— Ты посмотри на нее — не верит! Сыном клянусь единственным! Где кривые, где ты нашла кривые? — наступает Виолетта Альбертовна, вертя в руках юбку от костюма. Матрона показывает кривой шов. Виолетта Альбертовна упирает в бок толстую руку в кольцах из дутого золота и меняет лицо оскорбленной комсомолки на лицо выпившей проститутки.
— И что теперь? Подумаешь, цаца какая! Шов ей кривой! Его и не видно совсем. А она прямо Италии захотела! Да ты знаешь, сколько Италия стоит? Ты где вообще на толчке Италию видела? Может, мне расскажешь, так я щас тут брошу все, сама туда побегу. Ишь — Италию ей за семьсот рублей подавай! Насмешила!
— Шестьсот пятьдесят!
— Семьсот! — кричит Виолетта Альбертовна. — Я их беру сама за семьсот двадцать, просто стоять здесь надоело, поэтому за семьсот отдаю!