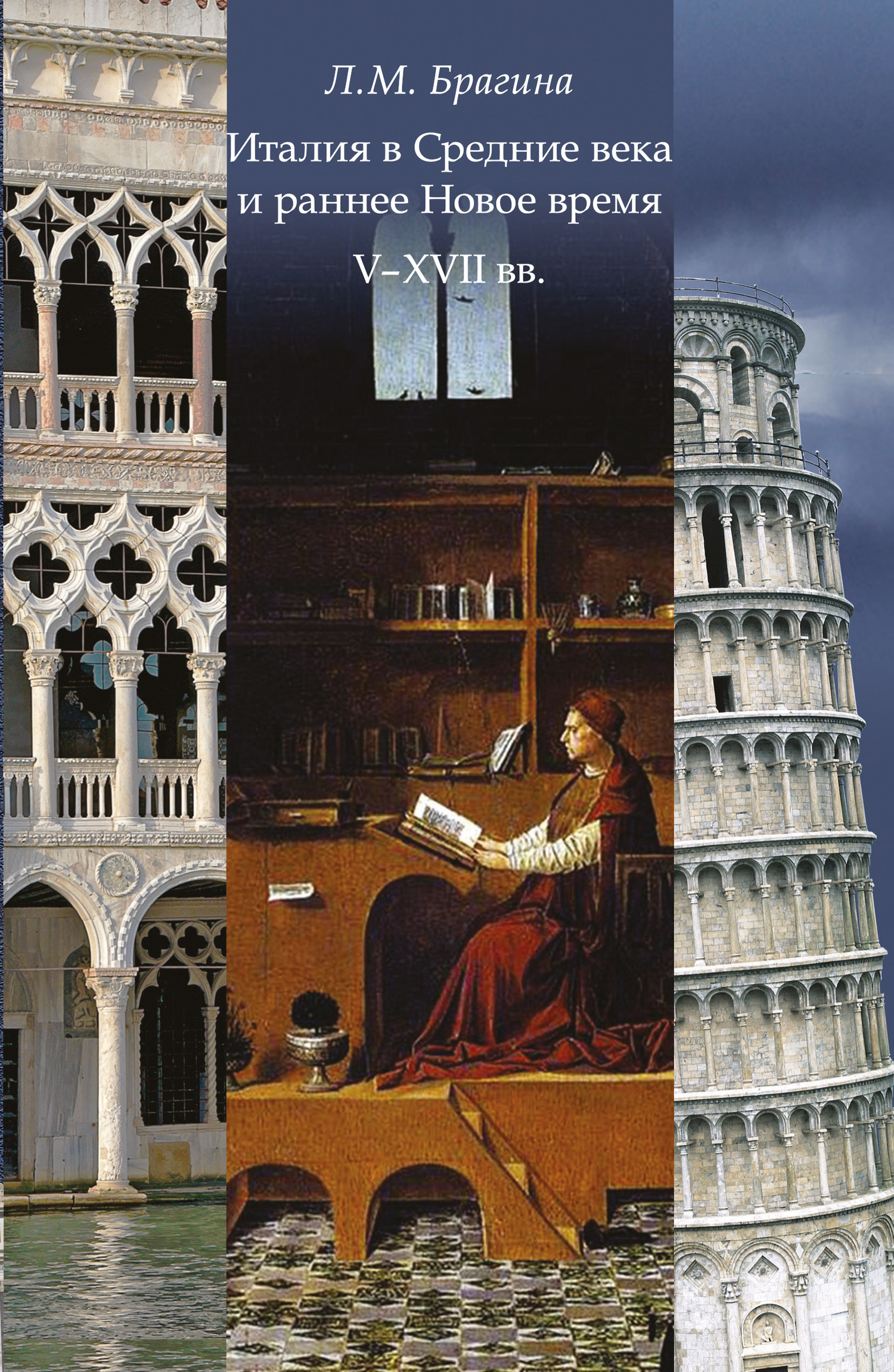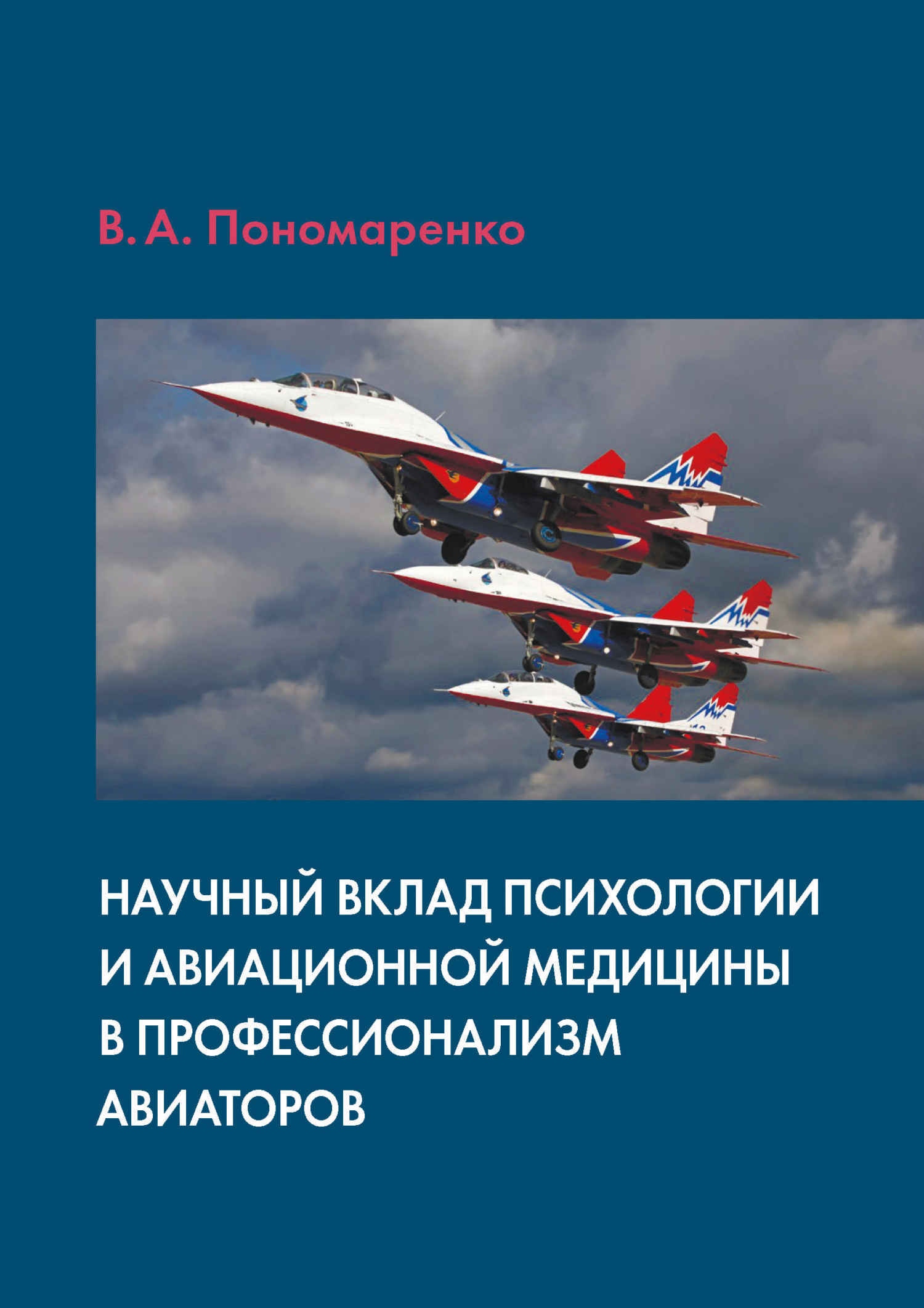Сочетание растущей численности и неизменной длины подходящих ручьев, рек и каналов усиливало социальный разрыв между спортивной и пресноводной рыбалками[418]. Те, кто достиг успеха в своем ремесле или деле, арендовали отдаленные участки с форелью или семгой за все большие и большие деньги[419]. А рыболовы из низших классов договаривались о совместных поездках и делили затраты на право рыбачить в погоне за менее престижным уловом. Они уезжали не на неделю, а на день – отправляясь из городов к ближайшему водоему и возвращаясь с уловом в сумерках. К концу викторианского периода в одном только Шеффилде было зарегистрировано двадцать тысяч рыбаков[420].
Подобно садоводству, и разведение, и убийство птиц и животных предполагали сложные переходы между социальной и одиночной практиками. В случае с различными формами животноводства момент публичного показа был всего лишь заключительным этапом. Каждая особь выращивалась месяцами или годами: мелкие виды – в домашних условиях, крупные – на открытом воздухе, в питомниках, в клетках, на чердаках. Крупных домашних животных, особенно собак, как мы видели в предыдущей главе, приходилось регулярно выгуливать на улице или на открытых площадках, а голубям – позволять летать. Все зависело от обособленных отношений между хозяином и его живностью. Сколько бы советов ни было получено из публикаций или от членов клуба, люди – как заводчики – вкладывали основную часть своего времени в тесное общение с питомцами, часто за счет денег, практической помощи или беседы, которые могли бы в ином случае получить от них члены семьи. Жены рабочих, увлекавшихся голубиными гонками, жаловались, что мужья тратили больше на птиц, чем на семью, и разговаривали больше с ними[421]. Забота и общение происходили между одним энтузиастом и одним или несколькими представителями конкретной породы. Это было средством выражения мастерства, знаний, амбиций, а также способом ухаживать, который имел ценность только для преданного приверженца конкретной разновидности животноводства. Смысл и успех обретались путем отказа от человеческого взаимодействия внутри социальной единицы домохозяйства. Затем наставал момент, когда птицу или животное перемещали в переносную клетку, чтобы доставить в клуб или на выставку, где хозяева могли общаться с другими приверженцами того же вида деятельности. Способ транспортировки особей из уединенного места в социальную среду сам по себе был вопросом специализированного оборудования. Взять, например, такой мощный вид пролетарского досуга, как конкурсы по птичьему пению. В касселевском компендиуме увлечений сообщалось, что у владельцев птиц был такой обычай – делать маленькие клетки высотой семь с половиной дюймов, длиной шесть дюймов и глубиной четыре дюйма, которые они несли «в носовых платках в различные пабы, куда приносят большое количество щеглов и коноплянок»[422]. Там делались ставки и присуждались призы – птице, которая за пятнадцать минут издаст больше нот.
Для селекционеров, обладавших более высоким статусом и владевших более дорогими птицами (такими, например, как миндальный турман), интенсивный одиночный опыт ухода за птицей имел то же значение, что и другие формы бегства от утомительного интеллектуального труда. Джон Мэтьюс Итон в «Трактате об искусстве выращивания миндального турмана и уходе за ним» (1851) объяснял, что это хобби «является невинным развлечением и отдыхом, вполне подходящим для джентльмена – специалиста в области права, медицины или богословия, или же любого другого человека, которому свойственно долгое и чрезвычайное напряжение умственных способностей»[423]. Итон повторяет идею XVIII века, согласно которой работники умственного труда особенно предрасположены к той или иной форме меланхолии и психических заболеваний. Самое надежное лекарство здесь – периоды дисциплинированного, целенаправленного одиночества, сохраняющего творческую связь с общественными устремлениями. «Я полагаю, – писал он, – что многие из ярчайших светил, внезапно потерянных для общества, не были бы таковыми, если бы практиковали это занятие с целью восстановления или же отдыха для ума. Я знал некоторых очень старых джентльменов в этой сфере, но никогда еще не встречал разводчика, который страдал бы от ипохондрии»[424][425].
Такое же утверждение высказывалось и в отношении стремительно развивающегося рыболовного спорта. «В качестве отдыха для специалистов, – гласил «Справочник по рыбной ловле» (1825) Т. Ф. Солтера, – для работников умственного труда, для тех, кто подвержен психическому истощению в призваниях, требующих постоянного и напряженного внимания и нередко вызывающих психическую подавленность, ничто, на мой взгляд, не сравнится с рыбалкой»[426]. Как и авторы многих других текстов XIX века, Солтер перефразировал тезисы Уолтона из «Искусного рыболова». В исправленном издании 1665 года Уолтон писал:
Мой дорогой ученик, нет более счастливой и приятной жизни, чем жизнь добродетельного рыболова. Ибо в то самое время, когда юрист тонет в делах, а политик разоблачает интриги или плетет их, мы сидим на берегу, покрытом цветущей примулой, слушаем пение птиц, смотрим на серебряные струи, бесшумно скользящие рядом с нами, и не зависим ни от кого[427].
Из всех видов досуга XIX века рыболовный спорт настойчивее других требовал тишины. Уолтон переселил ранних отшельников на берег реки, ссылаясь на «невинность и простоту, присущие первым христианам, тем христианам, которые были, как почти все рыболовы, люди тихие, мирные…»[428]. На посвященном его трудам витраже Винчестерского собора приведена строка: «Учись быть тихим». В каждом описании этого занятия указывалось как на определенный объем познаний, необходимый успешному рыбаку, так и на полное отсутствие шума на берегу реки. Уолтон писал, что для рыбака это занятие – «отдых для ума, веселье для духа, отвлечение от уныния, успокоение тревожных мыслей и источник благодушия»[429].
Сосредоточенное применение знаний – какое оснащение использовать, какую наживку насадить, какую часть ручья выбрать для ловли, как устроена экология реки и ее берегов, – позволяло освободить ум от тяжелого умственного труда, необходимого на работе[430]. В известном эссе середины XIX века Чарльз Кингсли упоминал «самое изысканное наслаждение рыбака, тот мечтательный, созерцательный покой, нарушаемый лишь необходимым занятием, что поддерживает тело в активном состоянии, тогда как разум спокойно воспринимает каждый образ и звук природы»[431]. Большинство последователей Уолтона полагали, что наибольшую пользу извлекали из этого изнуренные представители среднего класса, но, как утверждал Уильям Хоуитт, той же самой радости побега от трудовых забот искали и те, кто работал руками:
Тяжесть жизни бедняка – тревоги нищеты – борьба за выживание в огромных городах – посещают его, когда сидит он у прекрасного ручья – прекрасного, как мечта о вечности, и прозрачного, как вечный небесный свод над ним; – они приходят – но он отбрасывает их на время[432].
Как и в случае с другими видами досуга, чем больше был доход, тем легче было сбежать от общества. Те, кто мог себе позволить недельную