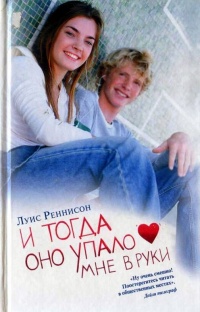Без труда.
Говорили также, что Джованни от бурной страсти так ослабел, что графиня на руках носит его из постели к столу и переносит обратно в постель. В конце концов стали болтать, якобы он вообще не покидает постели, однако любовница продолжает им наслаждаться…
Да мало ли что говорят о красавицах, которые уязвляют убогое воображение людей самим фактом своего существования!
Кстати, Юлия вовсе не была любовницей Пери. Да и вообще графиня Юлия Самойлова уже не существовала на свете. Зато появилась просто-напросто синьора Джулия Пери: ведь немедленно после достопамятного похищения из театра влюбленная красавица потащила свою драгоценную добычу под венец. Разумеется, венчались по католическому обряду – Юлия сменила веру. Строго говоря, менять ей было особенно нечего, ибо она была совершенно античная женщина, а никакая не христианка. Так или иначе, выйдя за иностранца, сменив веру, Юлия лишилась права на русский титул и на все свои богатства, оставшиеся в России.
Впрочем, в Италии из ее состояния тоже оставалось еще немало. Другое дело, что, привыкнув жить широко, очень широко, синьора Пери уже не могла остановиться или хотя бы несколько поумерить траты. Когда денег стало не хватать, она продавала то одно, то другое… Последние дни Джованни были украшены великой любовью – последней, кажется, которая только могла вспыхнуть в сердце этой необыкновенной женщины – и выжечь его дотла.
Счастье ее не длилось и года. Похоронив мужа, синьора Пери носила траур, который ей необыкновенно шел, и разбивала теперь сердца именно тем, что солнце ее красоты было затянуто тучами.
Кстати, спустя год после кончины Джованни Пери умер в Петербурге и «красавец Алкивиад», Николай Самойлов…
«О господи, – с ужасом думала Юлия, – да что же это делается на свете?! Умерли Бришка, и Джованни, и Ники… А сколько еще друзей отправились в туманные дали на том берегу Ахеронта?! Какая тоска… этак ведь и я когда-нибудь последую за ними?!»
Другое дело, что слишком сильной натурой обладала Юлия – она просто физиологически не была способна предаваться греху уныния. Она вернулась к жизни и задумалась об ее удобствах, которых теперь, лишившись титула, была лишена.
Самым простым способом вернуть титул было – выйти замуж. Однако места для любви в ее сердце уже не оставалось, поэтому Юлия решила выйти замуж по расчету. На какое-то время ее внимание привлек французский дипломат граф Шарль де Морне. Юлия отправилась с ним под венец, и… одной ночи хватило, чтобы понять: она слишком брезглива, чтобы продолжать быть вакханкой рядом с этим извращенцем. Она потребовала развода, ну а граф де Морне потребовал отступного. В астрономической сумме! Иначе грозил не дать развода. Или дать, но при этом лишить жену столь желанного титула.
Юлия попыталась сторговаться с Морне. Сговорились, что ему будет выплачиваться ежегодно сумма, которая, как графиня Самойлова (так она стала зваться после развода, ну и на том спасибо!) вскоре поняла, оказалась для нее непосильной, разорительной…
Разорение, увы, вскоре и наступило. Так что жизнь свою графиня Юлия заканчивала в Париже, лишенная всех своих баснословных богатств. О нет, она не нищенствовала! Однако того, кто привык сорить деньгами, необходимость считать их способна свести с ума.
Кроме того, ее изрядно донимали тяжбы с родственниками. Да еще добро бы с какими-нибудь обиженными ею! Нет, безумно огорчала Юлию именно горячо любимая малютка Амацилия Паччини, некогда изображенная со своей прелестной сестрой Джованиной на картине Брюллова «Всадница», а потом сопутствовавшая Юлии на двух ее знаменитых брюлловских же портретах. Разумеется, Амацилию теперь никто бы не назвал малюткой. Она пережила два неудачных замужества и собиралась с горя в монастырь, однако никак не могла отряхнуть со стоп своих прах земных пакостей – и затеяла со своей приемной матерью тяжбу из-за какого-то дома, который принадлежал Амацилии наравне с Джованиной не то по праву наследования, не то по договору удочерения. Это была весьма запутанная, долгая и скандальная тяжба. Чем она закончилась, неведомо. Такое ощущение, что никто ничего не получил, потому что Амацилия ушла-таки в монастырь, а графиня Юлия покинула Италию, чтобы в возрасте шестидесяти четырех лет (14 марта 1875 года) скончаться в Париже, под бледным по сравнению с итальянским французским солнцем, и быть похороненной на кладбище Пер-Лашез в одном склепе со своим любимым мужем Джованни Пери.
Воистину любимым, если она перевезла его прах во Францию!
Да… Но все же Юлия всю жизнь свято хранила память о другой любви – не столь трагичной, буйной, молодой, сияющей, рожденной богами – покровителями искусства. Она не продавала картин Брюллова в самые тяжелые минуты жизни (их судьбой после смерти графини распорядились ее дальние родственники). Ведь эти картины были написаны ими совместно: кистью Карла Брюллова – и полуденной красотой Юлии Самойловой.
Картины эти остались жить, чтобы порождать у зрителей вечное сомнение: может быть, эти двое встретились лишь для того, чтобы красота Юлии была запечатлена в веках? Может быть, не она была музой Брюллова, а Брюллов – орудием влюбленной в Юлию вечности?..
Так или иначе, они будут вместе всегда, навеки, нераздельно.
Амазонки и вечный покой
Исаак Левитан – Софья Кувшинникова
Maman противная, противная! Она похожа на цыганку! У нее коричневые веки, а губы красные, будто красный перец! И она старая, старая! Она старая, а я молодая! Ты не можешь любить ее! Ты должен любить меня! Посмотри!
Девушка рванула ворот своей ситцевой блузы, и он увидел нежную шею, тонкие ключицы, увидел ее маленькую грудь, едва прикрытую батистовой рубашечкой. Рубашку стягивала на груди узкая шелковая лента, завязанная смешным неровным бантиком, и вот худые пальцы нервно, заплетаясь, принялись распутывать бантик, раздвигать края рубашечки, обнажая грудь.
– Смотри, смотри, – твердила она, словно в забытьи, – смотри на меня! А у нее вот здесь морщины, ты знаешь? Я сама видела! И на лбу у нее морщины, и вокруг глаз… Она старая, старая! Ты не можешь ее любить! Ты должен любить меня!
Ясные глаза наполнились слезами, нежные губы искривились от боли. Девушка вцепилась в руки художника, прижала их к своей груди, двигала плечами, и нежное тело переливалось и билось в его ладонях, словно молодая березовая ветка под ветром.
Он опьянел. Смотрел на голубую жилку, бьющуюся на шее, чувствовал, как наливаются возбуждением маленькие груди, видел, как влажно блестят зубы меж неумелых губ, которые все шептали, выдыхали, исторгали бессвязные слова… Он пьянел от ее запаха, напоминавшего тонкий аромат подснежника на тенистом пригорке. Он слушал ее прерывающийся голос и смотрел в потерянные голубые глаза, но видел другое.
Другую!
У той, другой, были темно-русые, разметанные по подушке волосы, припухший, нацелованный рот, гладкие плечи и сильные руки, которые вцеплялись в его плечи и прижимали к себе так, что он не мог оторваться. Да он и не хотел. У него мысли мутились от вкуса ее кожи, от горьковатого, женского, дымного запаха ее тела, он бился в тисках ее сильных ног, впивался губами и зубами во вздыбленные груди, на которых не было никаких морщинок, а если даже и были, он не видел их. Да, не видел, и это он-то, с его острыми глазами, способными различить в одном белом цвете десятка два тончайших переливов, полутонов, оттенков… Он не видел ничего, что могло бы нанести ущерб ее красоте, которая сводила его с ума и которая принадлежала ему, только ему!