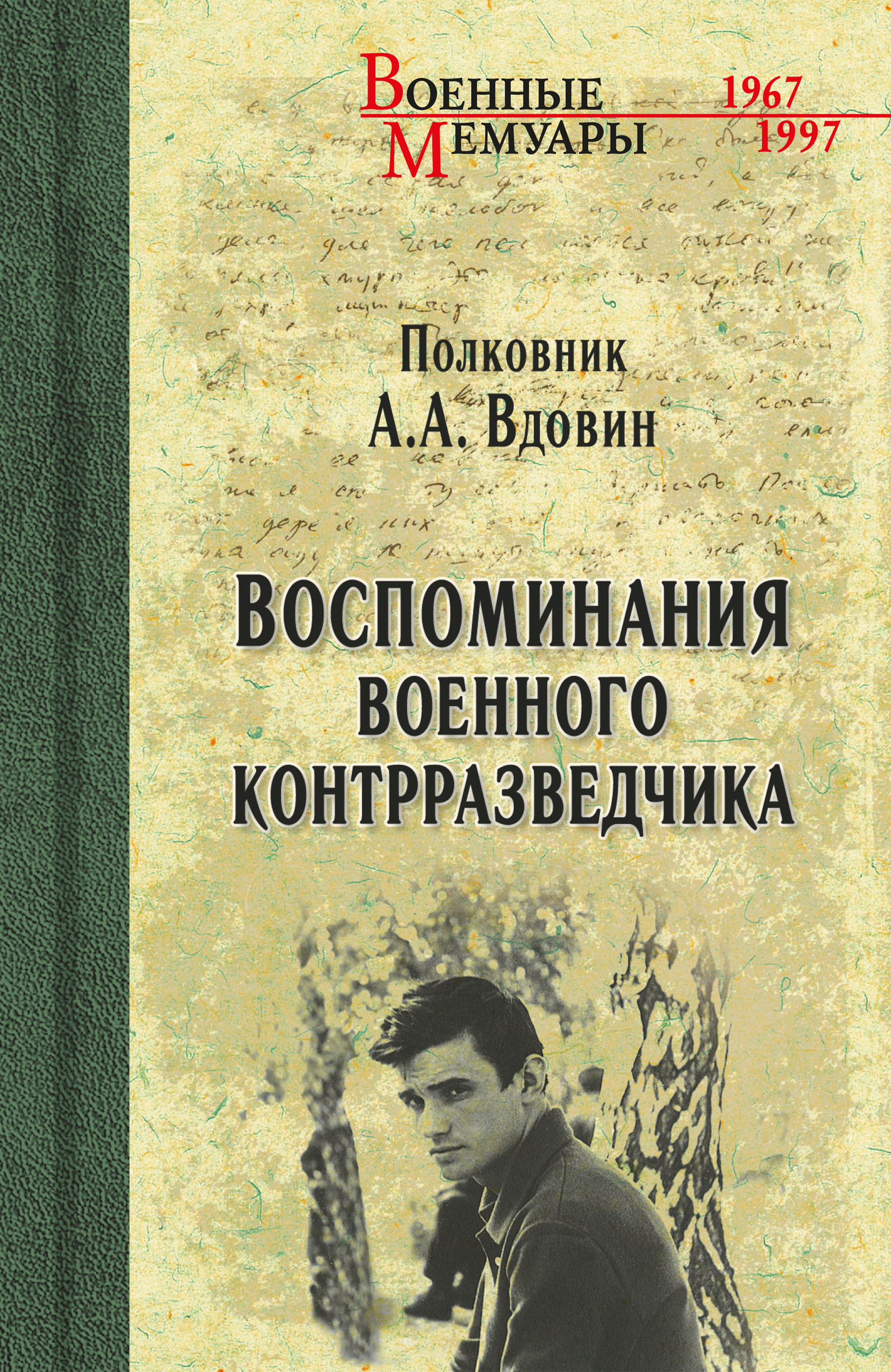результате он дает возможность Лантенаку бежать. За это он сам попадает под суд, так как нарушил закон, запрещающий оказывать помощь мятежникам. Голоса разделяются. Из трех судей один высказывается за смерть – как нарушителю закона, другой, сержант Радуб, считает, что поступок Говэна достоин высшей награды, а не осуждения; решает дело Симурден, который, помня свое торжественное обещание членам Конвента: «Если республиканский командир, который доверен моему наблюдению, сделает ложный шаг, его ждет смертная казнь», приговаривает Говэна к смерти. Но он не выдерживает казни своего ученика и любимца и в тот самый момент, когда голова Говэна скатилась в корзину, Симурден выстрелил себе в сердце. Кончается роман замечательными словами: «Две трагические души, две сестры, отлетели вместе, и та, что была мраком, слилась с той, что была светом». Все симпатии Гюго на стороне Говэна, и он подчеркивает, что республиканские солдаты протестовали против казни и один гренадер соглашался быть казненным вместо Говэна.
Нетрудно догадаться, что такая позиция не по вкусу нашему казенному комментатору А И. Молоку, выражающему пока что «утвержденную» точку зрения. По его мнению, поступок Лантенака, спасающего крестьянских детей из пожара, не вяжется с образом жестокого вожака вандейцев и является надуманным. Этот эпизод, по комментатору, понадобился Гюго из соображений ложной гуманности. А самоубийство Симурдена символизирует моральную капитуляцию перед идеей милосердия, и «образ стойкого комиссара Конвента, разумеется, проигрывает от этого, оказывается менее цельным… В этом трагическом эпизоде отчетливо обнаруживается противоречивость взглядов Гюго на революционный террор. Писатель оправдывает его лишь как временное, преходящее явление, допустимое лишь в обстановке ожесточенной гражданской войны. (Впрочем, в других местах романа он не скрывает своего отрицательного отношения к „закону о подозрительных“ и другим террористическим мерам якобинской диктатуры.) В дальнейшем, полагает Гюго, допустимы одни только методы милосердия».
Трудно было бы поверить, что официальный комментатор от имени марксизма, мог дойти до такой низости, чтобы считать, что террор может быть оправдан не только в обстановке гражданской войны! Ведь, казалось бы, допустимы только две точки зрения для сколько-нибудь прогрессивного мыслителя: 1) полное отрицание террора вообще (в XX веке представитель его – Ганди); 2) допустимости его как неизбежного зла в самые острые моменты с вековым насилием. Оказывается, с «марксистской» точки зрения имеется третья возможность: признание режима перманентного террора. Но тогда зачем же Сталин и его защитники рядились в тогу социалистического гуманизма и вместе с тем утверждали, что социалистический строй без антагонистических классов уже построен? Выходит, что противники правильно говорили, что их строй держится только на терроре!
Кроме того, Молок не прав в том, что Гюго настаивает на допустимости только актов милосердия. Ведь Говэн – солдат революции, разивший смело врагов в бою, но отказавшийся воевать со стариками, женщинами и детьми, не убивавший лежачего, готовый проливать чужую кровь лишь при условии, что может пролиться его кровь. Великолепно противопоставление Симурдена и Говэна:
Говэн: «Свобода, Равенство, Братство – догматы мира и всеобщей гармонии. Зачем же превращать их в какие-то чудища… Низвергают трон не для того, чтобы на его месте воздвигнуть эшафот… Снесем короны и пощадим головы… Жестокосердные люди не могут верно служить великодушным идеям. Слово „прощение“ для меня самое прекрасное из всех человеческих слов».
Симурдэн и Говэн представляли две формы республики, республику террора и республику милосердия. На стороне Симурдена был наказ Коммуны Парижа: «Ни пощады, ни снисхождения, полномочия Комитета Общественного Спасения, приказ за подписями Робеспьера, Дантона, Марата; на стороне Говэна была только рука, разящая врагов и сердце, милующее их».
«Оба они парили каждый в своей сфере, оба они подавляли мятеж и каждый карал его своим мечом – один победоносно, на поле боя, другой – террором».
Прав ли был Говэн, отпустив на свободу Лантенака, или не прав? Как будто, по его собственному мнению, он сознал свою вину; на суде Говэн говорит: «Один добрый поступок, совершенный на моих глазах, скрыл от меня сотни поступков злодейских; этот старик, эти дети, – они встали между мной и моим долгом. Я забыл сожженные деревни, вытоптанные нивы, зверски приконченных пленников, добитых раненых, расстрелянных женщин, я забыл о Франции, которую предали Англии; я дал свободу палачу родины. Я виновен. Из моих слов может показаться, что я свидетельствую против себя, – это не так. Я говорю в свою защиту. Когда преступник сознает свою вину, он спасает единственное, что стоит спасти – свою честь».
Согласимся ли с этим рассуждением Говэна? Вспомним тот конфликт, который происходил в душе Говэна перед принятием решения – освободить Лантенака.
«Если учесть, что в этом человеке было столько дурного – необузданная жестокость, заблуждения, нравственная слепота, злое упрямство, надменность, эгоизм – то с ним произошло чудо. Победа человечности над человеком». «Человечность победила бесчеловечность».
«А что собирались сделать? „Принять его жертву“ – маркиз де Лантенак должен был пожертвовать или своей, или чужой жизнью; не колеблясь в страшном выборе, он выбирал смерть для себя. И с этим выбором согласились. Согласились его убить. Такова награда за героизм! Ответить на акт великодушия актом варварства! Так извратить революцию! Так умалить республику! В то время, как этот старик, проникнутый предрассудками, поборник рабства, вдруг преображается, возвращаясь в лоно человечности, – они, носители избавления и свободы, неужели они не поднимутся над сегодняшним днем гражданской войны, закосневшие в кровавой рутине, в братоубийстве? И голос совести не подскажет ему, что в подобных обстоятельствах бездействие есть соучастие! И он не вспомнит о том, что в столь важном акте участвуют двое: тот, кто действует и тот, кто не препятствует действию, и что тот, кто не препятствует – худший из двух, ибо он трус!»
«…Полно, уж не переоценивает ли сам Говэн так завороживший его поступок старика?»
«Трое детей были обречены на гибель: Лантенак их спас. Но кто же обрек их на гибель? Разве не тот же Лантенак?… Чем же так прекрасен его поступок? Просто не довершил начатого. И ничего более… Вот и вся его заслуга – не остался чудовищем до конца…
…Как, под угрозой разверстой пасти гражданской войны проявить человечность? Как в споре низких истин провозгласить правду! Доказать, что выше монархий, выше революций, выше всех людских дел – великая доброта человеческой души, долг сильного покровительствовать слабому, долг спасшегося помочь спастись погибающему, долг каждого старца по-отечески печься о младенцах? Доказать все эти блистательные истины и доказать их ценой собственной головы! Не может быть чудовищем человек, озаривший небесным отблеском добра пучину гражданских войн».
Говэн пошел к Лантенаку и хотя тот (ожидая, что его гильотинируют) в