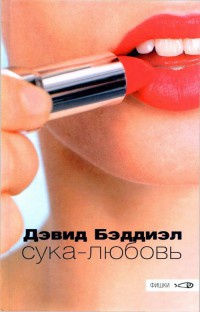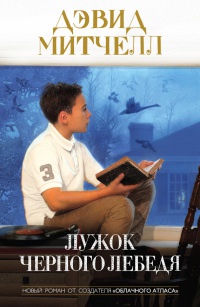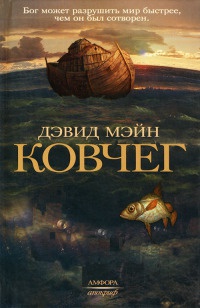– Как всегда.
– То есть…
– Как всегда.
– Бедненький, – сказала Харриет, – как ты устал. Неужели нельзя отложить утренних пациентов? Это ведь тоже не дело, работал чуть не всю ночь – и с утра опять за работу.
– У меня сегодня доктор Эйнсли и миссис Батвуд. Они все равно придут, и мне все равно придется с ними беседовать.
– Ну так объясни им, что ты сегодня устал, и выгони поскорее. Ты весь как выжатый лимон. Ты, случайно, не заболеваешь?
– Я совершенно здоров!
Кофейная чашечка Блейза так выразительно звякнула о блюдце, что Харриет вздрогнула. Некоторое время она ополаскивала недомытую кастрюлю, молча поглядывая на мужа. Какой он сегодня измотанный, раздражительный.
– Когда уже этот твой Магнус Боулз пойдет на поправку? Вроде бы приличный человек, а тебя вон до чего доводит.
– Главное, чтобы платил исправно, больше от него ничего не требуется.
– Что вы с ним сегодня обсуждали?
– Вряд ли это можно назвать обсуждением.
– Ну все равно, о чем говорили? Что он видел во сне? По-моему, у Магнуса, из всех твоих пациентов, самые замечательные сны.
– Ему снилось, что он яйцо.
– Яйцо?
– Да, такое гигантское белое яйцо в бирюзовом море – плавает на поверхности, а кругом больше ничего и никого.
– По-моему, это хороший сон.
– У Магнуса сны не бывают хорошими. Все его сновидения в конечном итоге оборачиваются страхами. Теперь вот ему кажется, что руки и ноги у него потихоньку укорачиваются, тело округляется, а лицо сплющивается. Он без конца заглядывает в зеркало, проверяет, не пропал ли у него нос.
– Неужели он по-настоящему думает, что превращается в яйцо?
– С Магнусом Боулзом вообще не очень понятно, что значит «по-настоящему». У него только страхи вполне настоящие.
– Он опять плакал?
– Как всегда.
– Бедняжка. И что значит этот его сон?
– Он боится, что его кастрируют.
– Ой, как жалко, – сказала Харриет. – А сон такой красивый. Прямо сон художника.
Она попробовала представить себе огромное белое, чуть кремоватое яйцо и вокруг – океан насыщенно-бирюзового цвета. Образ, тут же возникший у нее перед глазами, подействовал успокаивающе.
– И обжорство его – в сущности, то же самое. У мужчин-неудачников так часто бывает: они пытаются скрыть страх перед кастрацией и начинают пожирать все подряд. Знаешь, если все-все проглотить, то вроде бы уже и бояться нечего. Это бывает, особенно у несостоявшихся художников.
– А он ничего не говорил про своего епископа с деревянной ногой?
– Говорил: епископ уже наступает ему на пятки.
– А про меня?
– Велел передать свое почтение леди.
– Мне нравится, как он меня называет – «леди», как в старинной легенде. Все-таки я для Магнуса что-то значу. Если бы нам удалось с ним хоть раз побеседовать! Ему бы это помогло, я уверена.
– Да не нужны Магнусу никакие дамские беседы! Электрошок – вот что ему нужно.
– Ты же всегда был против шоковой терапии.
– А для него вообще самый лучший исход – летальный.
– Ну не надо так, зачем ты. Надеюсь, у Магнуса нет тяги к самоубийству?
– Конечно, я против шоковой терапии! Потому что любой серьезный научный подход может оставить меня без работы.
– Дорогой, тебе надо отдохнуть до прихода доктора Эйнсли.
– Этот толстозадый, друг Монти, опять сегодня заявится? Как там его?..
– Эдгар Демарнэй. Да, он хочет поговорить со мной о Монти, хочет попытаться ему помочь. Хорошо бы познакомить его с Дэвидом, но они пока еще ни разу не пересекались. Знаешь, он ведь ректор…
– Господи боже мой, как мне осточертели все эти помощники! Такие все кругом сердобольные, отзывчивые. И ты тоже хороша, тебе только дай кого-нибудь подержать за ручку. Раньше у тебя в коллекции были одни только четвероногие кобели, а теперь, смотрю, на двуногих переключаешься…
– Блейз, дорогой, если тебе так неприятно, что он приходит…
– Да ради бога, пускай приходит! Давай, держи его за ручку. Авось и этот воспылает к тебе любовью.
– Зачем ты так! Монти в меня не влюблен.
– Ничего, скоро влюбится! Ты, главное, продолжай разыгрывать перед ним ангела-хранителя! Вот бы кого шарахнуть электрошоком, ей-богу, а то распустился уже до неприличия. Да пускай хоть все приходят! Заодно передам тебе своих пациентов, чтобы ты их тоже держала за ручки!
– Дорогой… ну пожалуйста… ты просто устал…
– А, черт!.. Извини, Харриет. Ну извини, извини…
И он стремительно вышел из кухни, хлопнув дверью.
Харриет хотелось плакать. Они с мужем никогда по-настоящему не ссорились, и даже если он злился, она никогда не отвечала на его выпады. Но подобные сцены, происходившие редко, хотя в последнее время участившиеся, всякий раз больно ее задевали. Разумеется, она понимала, что дело тут только в усталости и накопившемся напряжении. Просто так он ведь никогда не говорит нехороших слов, думала она, только после Магнуса. Отдает себя Магнусу без остатка, а домой приходит весь выжатый. Такой уж он человек, отдает себя всем, кто в нем нуждается. Для Харриет их с Блейзом внутренняя связь была непреложной данностью, и, когда она вдруг ненадолго нарушалась, как сейчас, Харриет, конечно, страдала и мучилась, как от головной боли, но не искала в этом симптомы глубокого разлада. В такие минуты она чувствовала себя ужасно: собственные слова слышались ей как бы со стороны, и казалось, что их произносит какая-то глупая, необразованная, толстокожая женщина, которая не умеет ничего сказать вовремя и к месту. Неудивительно, что Блейз злится на нее все чаще. Наверное, он иногда жалеет, что не женился на какой-нибудь интеллектуалке.
– Чем это вы с Кики вчера полночи занимались? – спросила Эмили. – Ты явилась чуть не под утро.
– Пили.
– Где?
– Сначала в кафе, потом у нее в машине. Ездили за город.
– А возвращалась она опять через окно?
– Да.
– Не школа, а цирк какой-то.
– Что поделаешь, девочке уже восемнадцать. Если верить ее словам.
– Господи, где мои восемнадцать лет! Ах если бы сейчас – я бы кое-что повернула по-другому.
– Как вчера Блейз?
– А что Блейз? Блейз слюнтяй. По-моему, он просто матроны своей боится. Хотя он и скандала боится, и решить что-нибудь боится, и всего на свете. Я, конечно, устроила ему славную ночку, а что толку? Ему только бы его оставили в покое. Ну я и оставила. Короче, тоска.