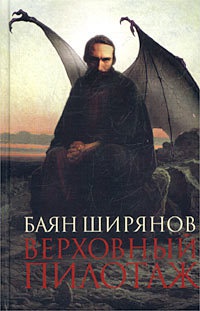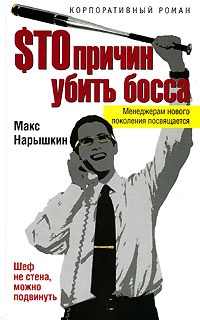Всё написанное Межировым и в России, и в США свидетельствует: он, как всякий человек, который «у памяти в залоге», прекрасно сознавал, что перемежаются восторженная хвала и яростная хула в его адрес, что немало таких хулителей, с ходу выносящих ему «приговор жестокий, исключающий любое алиби». Его поэзия – акт осознания своего несовершенства и покаяния перед Богом и людьми. Порой ему хотелось казаться безразличным к нападкам, и это заставляло его обращаться из-за океана к своему читателю и собеседнику: «Прими мою неправоту – не верь людскому пересуду…» Сюда можно присовокупить давнее: «Когда стихи прочтёте, понятней станет вам».
Однажды в нефтяной гавани Батуми я увидел на октябрьском рассвете, когда шёл в кофейню Анартироса, как на сваях пристани в беззвучном плеске колыхались, будто изумительной красоты бахрома, наросты мембранипоры. Рядом со мной остановился старый морской волк в штормовке и (разумеется!) с трубкой в зубах, заметил, чем я заинтересовался, и сказал мне как давнишнему знакомому: «А-а, это что, генацвале, это мелочь, а вот посмотрел бы ты на днище большого корабля – вот что дико обрастает такой гадостью, а случается, что попадает и внутрь судна – по трубам, когда приходится забирать забортную воду, чтобы охлаждать машины». Потом я где-то прочитал, что эти самые трубы постепенно заселяются едучей мембранипорой, от которой нелегко избавиться.
К чему это я? Вот чем-то вроде такой неистребимой липучки из смеси морских желудей, асцидий, мшанков вопреки своей воле и великие поэты обрастают сплетнями и наветами. Чем значительнее имя, тем их больше, тем они крикливей, ярче, забористей. Появляются книги, в лучшем случае, наподобие вересаевских «Пушкин в жизни», «Гоголь в жизни». Есть более пристрастные творения о Маяковском, Есенине, Олеше, Ахматовой, (которой, между прочим, приписывали связь с Николаем II и Блоком). Даже один из самых талантливых учеников Межирова не преминул написать об игре поэта со страхом (как мере мелоса), сделав ударение на том, что этот «страх всё менее „державный“ и оправданный по мере ветшания империи, деградировал до конкретной боязни наказания за совершённый поступок (дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек)». Жаль, что это цитируется рядом с высказываниями злопыхателей, в том числе с письмом Межирову от бывшего приятеля, а затем – откровенного врага: «Мне жаль книг, подаренных Вам. Я ошибся, говоря о том, что Вы любите русскую поэзию. Это не любовь, скорее ревность или даже зависть. Не набивайтесь ко мне в учителя. Вы всегда в лучшем случае были лишь посредником и маркитантом, предлагающим свои услуги». На что А. М. был вынужден ответить – без проклятий и с высоты своего жизненного опыта:
Эта истина слишком стара,
С ней давно примириться пора:
Человек никогда не прощает
Причинённого кем-то добра,
Потому что добро унижает.
В мире зло велико и добро велико,
Зло, как это ни странно,
Прощают довольно легко,
Без усилий и даже заране, —
В этом люди вполне христиане.
Я тебе подарил только звук,
Только собственный звук, не заёмный,
Только сущность поэзии тёмной,
И за это, любезный мой друг,
На меня ты обрушился вдруг
С двух, в игре тренированных, рук —
В отработанной стойке погромной.
О душевном разладе и горьких разочарованиях Межирова в последние его годы в Штатах мы нередко говорили с Александром Ревичем, который искренне сострадал собрату. В статье «Воля свободного поля» о моём избранном («Дружба народов», № 5, 2012), ведя речь о сочувственном отношении А. П. ко мне, Ревич заметил: «…Межиров пишет метафорически, имея в виду художественную природу поэта, способного твёрдо знать, что за кирпичной мусорной грудой на „свободном поле“ пустыря, в чертополохе бродит мёд. И это – Межиров, махнувший на себя рукой в конце жизни и признавшийся, что перед ликом величайшей русской поэзии, которую он боготворил, он – „несостоявшийся поэт“».
А ведь ещё в сорок седьмом сразу после выхода в свет сборника «Дорога далека» Сергей Наровчатов приветствовал приход в поэзию истинного таланта и предрёк неугасание межировским синявинским кострам и перебомблённому рубежу! И действительно: в стихах Межирова «синявинская чёрная вода под снегом никогда не замерзала». Вспомним: «Он стал поэтом той войны, той приснопамятной волны, которая июньским летом вломилась в души, грохоча…» Наровчатову вторил Евгений Винокуров, который не мог не заметить, что уже в ранних стихах приятеля-фронтовика «его нельзя было спутать ни с кем», что у него с явным новаторством сочетаются и трагедийность высокого полёта, и державинская взволнованность – таковы, мол, отличительные черты межировской интонации.
2
Эту, связанную с новизной формы и содержания, интонацию, сильнее всего проявлявшуюся в стихах даже той, послевоенной, поры и в их авторском – завораживающем, колдовском – чтении, я не мог не обнаружить, когда мы познакомились с Межировым в 1959-м в Тбилиси, прекраснейшем «маленьком Париже», раскинувшемся над Курою, полном особенного, именно тифлисского тепла и таких же особенных, пряных запахов древности и юности. Притягательной магии этого города в пору «оттепели» посвящено множество великолепных поэтических и прозаических страниц. В предисловии к моему роману «Блюз для Агнешки» Василий Аксёнов недаром воскликнул: «А где лучше можно было разморозиться от вечного советского страха, чем в древнем караванном городе, чьё имя как раз и говорит о тепле?!» Мой герой готов был поклясться, что именно на грузинском языке впервые прозвучали слова о том, как блажен человек, которого любят Музы, – и всё из-за того, что тбилисский сентябрь, утверждаясь в своих правах, распахнул перед страждущими пришлецами свои тайны, и узкие улочки, и тесные дворики, и их плывущие в безоблачном небе балкончики, резко приблизил Салалакский хребет, а солнце, не столько знойное, сколько слепящее, делало всё возможное, чтобы на фоне развалин древней Нарикалы мелькали свадебные наряды невест, и возле крепости скалистые горы противоположных берегов в такие моменты едва ли не касались друг друга, и время сходилось в одной точке.
У Межирова появилось здесь новое поэтическое дыхание; любая мелочь в быте и природе вызывала восторг своей художественной необычностью, будто явилась, как не раз говорил он, с полотен Нико Пиросмани или из коллажей Сергея Параджанова. «О, на какой загубленной лозе возрос коньяк, что стоит восемь гривен?!» Его поражала вечность, запечатлённая в органичнейшем слиянии древности и современности: «В чём тайна тайн архитектуры храма? Через фонарь в округлом потолке на человека небо смотрит прямо и с храмом человек накоротке. <…> Смотри, как много навалило снега. Верийский спуск. Зима, зима, зима». То была ещё одна крутая, ведущая кверху, ступенька в жизни и поэзии Межирова.
Тбилисские стихотворцы со стопками подстрочников буквально выстраивались в очередь к нему. Всему виной – ранняя его известность, легенды о нём (да, они всегда сопровождали «фантазёра и мечтателя» с «окраин города Колпино», накопившего «много самых весёлых и грустных историй» и выдумывавшего «небылицы»). Ясно было: не только война открыла имя Межирова. Звук, добытый в ней, был подтверждён Грузией. Тем не менее за пиршественными столами он воздерживался от захлёбывающихся, восторженных тостов. В ответ на признание и тепло он, не падкий на словесный рахат-лукум, отряхнувший «прах грозы летучей» и оставшийся «жить на всякий случай», пощажённый войной, не опускался до дежурной лести. Таков уж был его характер. Уже в семидесятых Межиров признался: «Медлительно грузинское застолье, нетороплива тостов череда. И только он один, – свихнулся, что ли, – в их ритм не попадает никогда. И только он один, не совпадая с грузинским ритмом тостов, напролёт всю ночь, – безумец, голова седая, – за рюмкой рюмку превентивно пьёт».