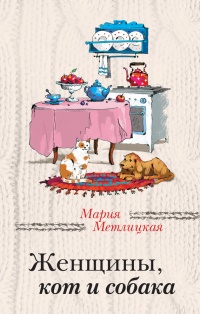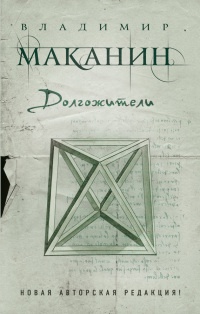— А потом?
— Потом они сами к тебе на улице пристали. Из-за промокашки. И я тут случился. Страшно обрадовался, что такая пруха. А потом струсил: все-таки четверо!
— Действительно струсил?
— Ну…
— Так ведь ты дрался? — не поверила она.
— Дрался-то я, дрался — но с двумя. Да и то вышло случайно: думал, Серега Удалов там один… С тобой.
— Потому и примчался?
— Потому.
Она задумалась на мгновенье, и прядка ее непослушная свалилась с виска.
— Ладно, — сказала она. — Струсил или не струсил… Подробности не важны.
— Как же! — не согласился я. — Ведь тогда я тебе все рассказал. Все как есть выложил. Это важно.
— Вот!.. Вот именно, — рассмеялась она. — Когда я это все услышала, я тебя возненавидела. Просто на дух выносить не могла. Тебя за драку выгнали, в другой класс перевели. Но если мы встречались в рекреационном зале на переменке, или от девчонок я вдруг слышала о тебе, мне худо становилось. И все думала и думала: как же это он мог, как посмел все это мне выложить запросто!.. Вот и получилось, что я всегда думала о тебе, — она смотрела мне прямо в глаза. — Всегда думала. И теперь думаю… И, наверное, долго еще буду думать.
* * *
Сейчас другой вечер. Я один в холостяцкой своей комнате, в коммунальной квартире, в центре Питера, — не слишком уютной, но чистой и прибранной, как каюта на военном корабле. Ковер падает со стены на кушетку, над столом голубоватый свет лампы, в углу дряхлый радиоприемник. И за стеклами в шкафах поблескивают буквы на корешках книг. Звонит телефон, соседка зовет в коридор, и присмиревшая актриса усталым голосом сообщает, что у нее после спектакля нет сил приехать. А днем был снегопад.
Снег валил густыми хлопьями, а потом поднялся ветер. И замело, задуло, запуржило. И звонкий холодный асфальт канул в осень, а московский день отодвинулся в давно. Когда-то давно я был в гостях. Мы пили чай. И ее глаза покраснели, когда я нечаянно произнес неосторожную, недостаточно округлую фразу. И еще раз. И понял, что не могло это быть случайностью, что жива, дремлет, не умерла — шевелится наша боль.
Скоро можно будет рассказывать об этом уже не в суете переживаний, а как бы глядя со стороны, а может быть, изнутри, потом у что вскрывается суть событий. Форма фразы и стилистические обстоятельства не волн уют, а тревожит и заставляет грустить прожитый смысл: ты пережил первую любовь и освободился от лучшей части себя, у траченной безвозвратно вместе с запутанными, раздвоенными, но чудесными переживаниями — они ушли и растворяются в памяти, как растворились радости детства и мучительные неосознанные стремления семиклассника. И девочка в голубом платье, широком без надобности, будто вышедшая проводить, худенька я женщина заблестевшими глазами улыбается тебе вслед.
* * *
Однажды утром я пришел к отцу на репетицию, принес билеты на концерт Курта Эдельхагена. На дворе стояла ветреная, ясная погода. Мы сидели в пустом и нетопленном зале. Голоногая девушка тряпками протирала витрину. На эстраде лежали инструменты. Солнечные блики играли на медных боках труб, сияли никелированные обручи и перламутровая облицовка барабана, шоколадно отсвечивала полированная крышка контрабаса, и золотом горел отцовский саксофон — инструмент немецкой фирмы «Kohlert», его единственная ценная вещь.
Глаза у старика были красные, он не выспался. Он давно уже не мог выспаться как следует. По ночам кашель будил его. И никто не мог ему помочь. Черный футляр от саксофона напоминал маленький гроб в мансарде, где половину подоконника занимал «Philips», а ноты были разложены на стульях. Врачи посылали отца на курорт. Но он и слышать не хотел о том, чтобы продать этот саксофон и купить дудку попроще. А деньги, что зарабатывал, в его карманах не застревали.
Он и сейчас покашливал, но не прекращал репетиции.
— Быть в форме, сынок, — моя обязанность.
К обязанностям, если касалось работы, он теперь относился исправно. Остальная жизнь по-прежнему катилась кувырком.
— А ведь мы с тобой слушали Курта лет семнадцать назад. Я его не забыл. Хороший музыкант.
Только… бухгалтер, — он задумался. — Немцы эти или японцы слишком правильно играют. Не концерт, а финансовый отчет… А вот штатники! Помнишь, на заключительном концерте у Эллингтона его ребята накирялись? Какой был джаз! После Дюка можно и умереть спокойно… Все-таки джазисты — босяки.
— Пойдем, послушаем, — сказал я и выложил билеты на стол.
— Конечно, пойдем. Спасибо… И места хорошие. Вообще правильно, что зашел, билетики занес. Навестил папу.
— Не надоело ломаться? Мы оба подождали.
Он притушил сигарету о край блюдца.
— Па, скажи: тебе одиноко? Хоть иногда тебе бывает одиноко?
— Нет, — сказал он чуть поспешно. — Эта проблема меня не занимает. И говорить мы об этом не будем.
— Временами прямо жутко становится, — признался я. — Но, по-настоящему, никто мне не нужен. Почему одному лучше? Ведь правда, лучше?
— Ты не один. И я не один… Пойми, артист, с самого начала было двое, а потом появилась мама, — стало трое. Ты и Дима — четверо. Я дарил твоей матери блюзы, а она мне дарила вас. Уже потом с ней случилось неладное — захотела жить, как все… А я не знаю, как все живут! Я всю жизнь играл в кабаках, и, ты знаешь, — другая жизнь не по мне.
Он пристально посмотрел мне в глаза и сказал:
— Что самое ценное в людях?..
— …?
— Неизменность.
— Мама всего лишь женщина.
— Что же с ней стряслось, с этой женщиной. Какая муха ее укусила?
— А ты не хочешь вспомнить, как это началось?
— Что?
— Гонка за деньгой, халтура, южные гастроли, юбки… Футбол.
— Есть вещи, в которых не признаются.
— Не настаиваю.
— Хочешь сказать — я тоже купился?
— Ты-то ушел. Но какой ценой!
— Она начала ревновать: музыку стала называть службой. Говорила: эта твоя работа…
— Она любила тебя. Отец кивнул.
— Как можно одновременно?
— Можно. Все можно… Я ее сам и сгубил.
Перекур кончился. Музыканты рассаживались в кружок. Отца никто не окликал.
— Несправедливый у тебя отец, — сказал он спокойно.
— Брось ты, па.
— И что тебе вздумалось копаться в таких вещах? — он покосился на меня. — Ты это брось — о живых людях писать. Послушай лучше, как мы сыграем.
Я хотел спросить его. Я не успел.
Кто-то сказал: «Играем блюз». Я поднял голову, отец уже занял свое место, он взял инструмент. Он думал о своем. А может, и не думал, я не знаю, как это назвать. Я увидел его глаза: такие чистые — в них не было грусти. Оркестр играл «Блюз жестяных крыш». И в его глазах не было ничего, кроме музыки проливного дождя.