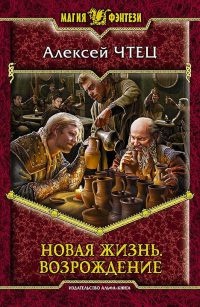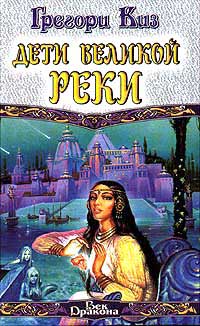— У нее несчастная любовь, — сказала Агата.
— У Сары? — спросил добрый мэр Крович.
— Да. В субботу, когда я туда заходила, она выглядела просто ужасно, и я спросила ее: «Милая моя, с вами все в порядке?» И она ответила: «Мне очень плохо, я не спала всю ночь, мое сердце разбито, и вы — единственная, кто это заметил. Спасибо». И она отсчитала мне сдачу.
— Сара? — удивленно сказал Тибо. — Я был там в субботу, она продала мне полкило сосисок. Я ничего такого не заметил.
— А я заметила, — вздохнула Агата. — Я узнала симптомы.
И едва она произнесла эти слова, как тяжелая грусть, которую она утопила в фонтане вместе с контейнером, внезапно ринулась по Замковой улице, ворвалась в кафе и уселась рядом на свободный стул. «Я узнала симптомы» — какое признание! Она призналась в том, что ее собственное сердце разбито. Это было признание поражения — но еще не белый флаг.
Тибо прикоснулся к ее руке. Столик-то был маленький. Они сидели очень близко друг к другу, и на какую-то секунду или две их руки лежали, соприкасаясь, его пальцы почти у изгиба ее локтя, а ее — на твиде его рукава, а потом их ладони сошлись вместе. «Я узнаю симптомы, — безмолвно говорил Тибо. — Я тоже узнаю симптомы».
А главное, к ней прикоснулись — мужчина прикоснулся к Агате с нежностью впервые за… за очень долгое время, и чувствовать, что к тебе прикасаются, было очень приятно. Такой женщине, как Агата, необходимо, чтобы к ней прикасались. Она впитала в себя эти несколько мгновений и сберегла их. Они исчезли в ней, как капли дождя исчезают в иссушенной почве, и где-то в глубине ее души шевельнулся росток, который казался давно погибшим.
— Вы и Стопак… — заговорил Тибо, — у вас в семье не все хорошо?
— Да. У нас не все хорошо — и уже очень-очень давно.
— Из-за дочери?
— Да, мне кажется, с этого все началось. Наверное. Моя крошка. Бедный малыш. Упокой ее Господь. Не проходит и дня… вы понимаете.
— Я понимаю. Понимаю. Когда-нибудь вы встретитесь с ней снова.
— Да, — сказала Агата. Пустое «да» человека, понесшего утрату. У нее вдруг защипало в глазах, и она шмыгнула носом — немного громче, чем хотелось бы. — Очень-очень давно, — повторила она и вздохнула.
— Не хотели бы вы… — У Тибо плохо получалось завершать фразы, но как-то так получилось, что это не имело значения. Они и так понимали друг друга.
— Нет, — Агата покачала головой. — Делиться горем — только умножать его надвое, говорила моя бабушка. Спасибо вам, господин мэр, но это не поможет. Ничего с этой ситуацией не поделаешь, а то, с чем не можешь справиться, нужно терпеть.
— Вы очень смелая, — сказал Тибо.
— Вовсе нет. Иногда мне хочется просто сбежать. Куда-нибудь на побережье Далмации. Я читала о тех краях. Там тепло.
— Но ведь и здесь тоже тепло, — возразил Тибо, который и представить себе не мог, что кому-нибудь, а уж тем более госпоже Стопак, может прийти в голову по доброй воле променять Дот на какое-нибудь другое место. Ради чего? В Доте есть красивая река, не хуже любой другой, замечательные утки, морской пляж совсем неподалеку, исторические памятники — обо всем написано в туристических проспектах, что лежат на столе в вестибюле Ратуши.
Но Агате, похоже, эти резоны в голову не приходили.
— Это сейчас здесь тепло. Сегодня тепло. Но это не навсегда. Ничто не длится вечно — уж я-то знаю — и уже совсем скоро у нас снова будет промозгло и холодно. Снег на улицах, к обеденному перерыву уже темно.
— Ну, не совсем.
— Почти. И так несколько месяцев. А на берегах Далмации тепло круглый год, и еще там есть замки, скалистые пляжи и красивые древние города, которыми когда-то владели венецианцы.
Венецианцы… В голове Тибо ожили воспоминания о выставке в городском музее и о прекрасной обнаженной Диане, купающейся в лесном озере.
— Иногда, — продолжала Агата, — я покупаю лотерейный билет, и тогда я ношу побережье Далмации в своем кошельке. Мой собственный маленький домик у моря. Только мой. Никакого Стопака. Только я и мужчина, который любит меня, читает мне вслух Гомера и приносит мне вино, и вкусный хлеб, и оливки, когда я нежусь в прохладной ванне.
«О, Боже! — подумал Тибо Крович. — О, Боже. О, святая Вальпурния! Госпожа Агата Стопак в прохладной ванне. О, Боже!»
— Вы любите оливки? — пробормотал он.
— Если я выиграю в лотерею, я научусь любить оливки. И Гомера тоже.
— Тогда я буду приносить вам оливки.
Агата рассмеялась. Ей показалось, что теперь самое время убрать руку — именно теперь, когда это можно смягчить улыбкой, чтобы расставание рук выглядело таким же обычным делом, как их соединение.
— Я, — повторил Тибо, — я буду приносить вам оливки.
— Вы добрый человек, господин мэр.
— К тому же я люблю Гомера. Кажется, я подхожу.
Агата улыбнулась, и улыбка еще не сошла с ее губ, когда Тибо встал, чтобы расплатиться. Кажется, он подходит. Добрый человек, который любит Гомера. Но это же Тибо Крович, мэр Дота. Конечно же, он не стал бы, он не смог бы, он, разумеется, не имел в виду, что…
— Готовы? — спросил Тибо, вернувшись к столику.
— Да, готова, — ответила Агата. — Готова.
Она заметила, что счет он оставил лежать на блюдце, придавив несколькими монетами. Эти расходы, понятное дело, он не станет оплачивать из городской казны.
Они прошли по залитой солнцем Замковой улице, по мосту и вышли на площадь — по-прежнему рука об руку, по-прежнему так близко друг к другу — только теперь они шли назад, и ощущение поэтому было иным.
— Здесь я должен с вами расстаться, — сказал Тибо.
— Здесь? Разве вы не вернетесь в Ратушу?
— Вернусь, но чуть позже. Мне надо кое-что сделать. Увидимся позже.
Тибо выглядел сконфуженным.
«Ах вот как! — подумала Агата. — Значит, я гожусь для того, чтобы вместе пообедать, для того, чтобы гулять со мной под руку. „И еще славно было бы заглянуть вам в декольте, госпожа Стопак, но в Ратушу я вернусь без вас. Большое спасибо, госпожа Стопак“». Но вслух она сказала лишь: «Хорошо!» — и ожесточенно постучала каблучками вверх по лестнице, ругаясь про себя. «Кажется, я подхожу! Кажется, я подхожу! Что ж, ваше высоконравие, я не позволю примерять себя, как одежду в магазине, так и знайте!» Добравшись до кабинета, она швырнула свою сумочку на стол и стала злобно забрасывать кофе в кофейную машину.
Конечно, если бы госпожа Стопак выглянула в окно, она увидела бы, что Тибо Крович в это время стоял у южного фонтана и почесывал в затылке. Вода оказалась глубже, чем он предполагал — но там, на самом дне, лежал голубой эмалированный контейнер госпожи Стопак. На поверхности медленно расплывался на части один-единственный разбухший крекер. Тибо снял пиджак, аккуратно свернул его, как учили в детстве, и положил на чистое место. Потом закатал рукав рубашки, пока тот не сжал руку над локтем, словно жгут, встал на колени на бортик фонтана и потянулся к контейнеру. Мэр Тибо Крович, надо сказать, обладал обостренным чувством собственного достоинства и отчетливо сознавал, что его нынешнюю позу — голова внизу, седалище в небесах — трудно было назвать героической. Более того, она заставляла вспомнить одну из тех безнадежно несмешных короткометражек, которые любили показывать между фильмами в «Палаццо Кинема». «Сейчас как раз должен появиться человек, размахивающий приставной лестницей, — думал Тибо, — но терьер утащит мой пиджак только после того, как я свалюсь в фонтан».