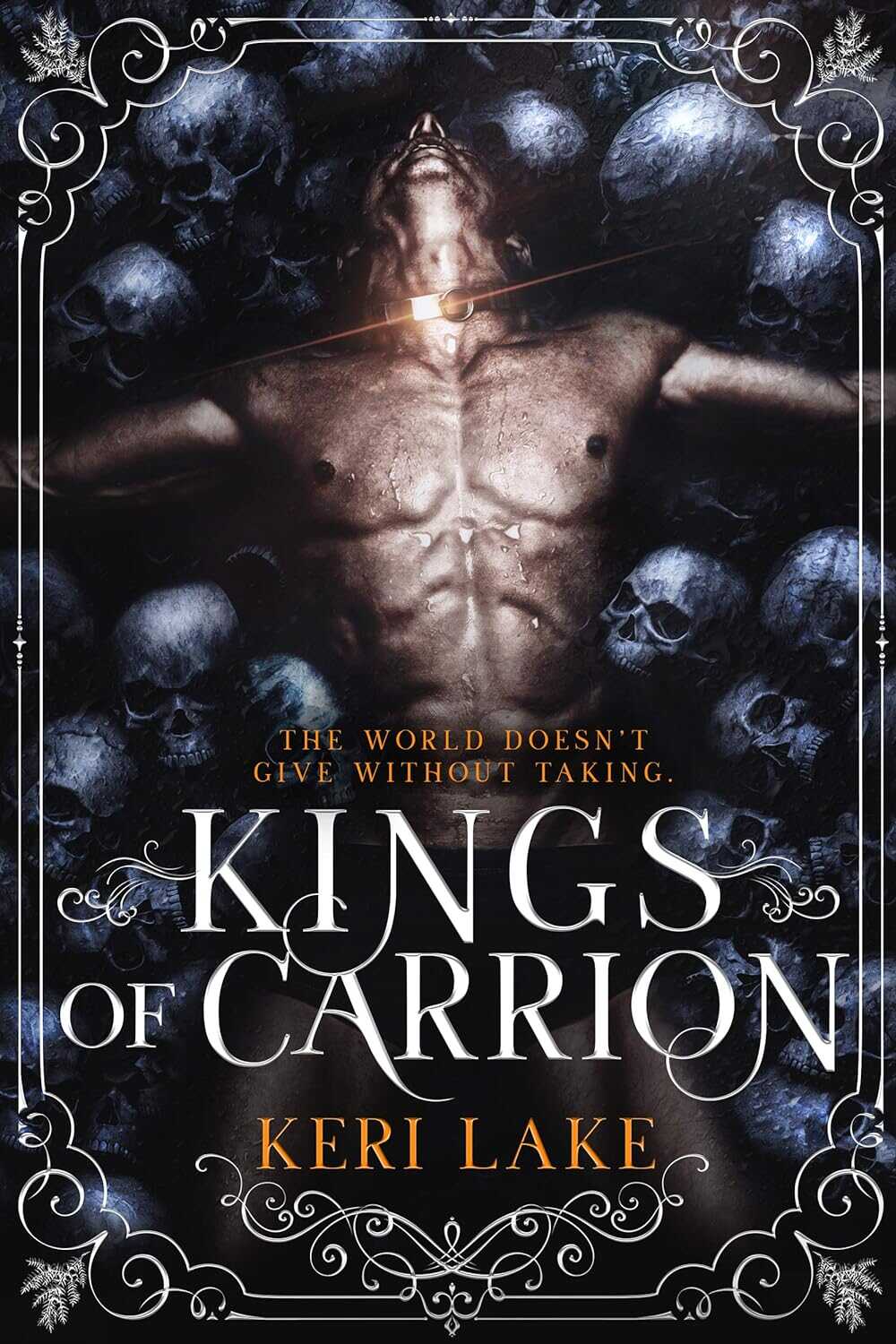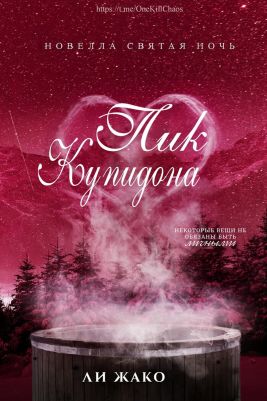водой, стоящее вне досягаемости. Упираясь ладонями в колени, я поднимаюсь на ноги и наполняю жестяную кружку, прикрепленную к ней сбоку. Оказавшись рядом с ним, я присаживаюсь на корточки и предлагаю чашку с водой, которую он бесстыдно выпивает.
— Я так понимаю, ты совсем в Него не веришь.
— Если бы я это сделал, я бы уже был мертв. Проводя губами по его массивному бицепсу, я вытираю излишки воды, и мои глаза снова отвлекаются на мышцы этого человека. Самый точеный, которого я когда-либо видела, несомненно, способный причинять сильную боль при ударе.
— И вот мы оба здесь, так что, возможно, один из нас лжет.
— Это была Его воля, которая изгнала тебя из Шолена? Остроумие в его глазах тускнеет до теней, когда он отворачивается от меня.
— Ты называешь меня Богом монстров. Кажется более подходящим для того, кому ты поклоняешься. Дочь.
— Тебя беспокоит тот факт, что я дочь?
— Я бы сражался за тысячу диких женщин, кроме тебя.
Дикари. Те, кто вырос в Мертвых Землях. Это был уничижительный термин, который люди в Шолене использовали для описания любого, кто не живет в его драгоценном пузыре чистоты. Хуже, чем цыгане, потому что, по крайней мере, им разрешили войти в стены.
Его слова не должны пронзать мое сердце. Они не должны вызывать слез на моих глазах, которые заставляют меня отвести взгляд. И они, конечно, не должны заставить меня понять, почему он сказал такие вещи, но я понимаю. Я слышала слухи среди цыган в Шолене, и я знаю, как смотрят на нас те, кто за стеной. Привилегированная кучка избалованных придурков. И они не ошибаются. Я бы и дня не продержалась в Мертвых Землях одна. Этот факт позорит меня дольше, чем время, проведенное здесь. Из-за моего невежества в выживании я заключена в тюрьму двумя психопатами, один из которых хочет оплодотворить меня своим психопатическим отродьем.
Единственное, на что мне приходится полагаться, — это на свое остроумие, и я даже не уверена, как далеко это меня заведет.
Смахивая слезы с горла, которые, я уверена, вызваны недосыпанием, я беру чашку, которую он протягивает мне.
— Кажется, твои раны больше не требуют внимания. Завтра я сниму швы, и это будет последний раз, когда тебе придется терпеть мой разговор.
— Я сомневаюсь в этом.
— Почему?
— Раны в этом месте никогда полностью не заживают.
Я верю в это. Я даже не начала разбираться в ужасах, которые скрываются под этим местом.
Когда я отворачиваюсь, чтобы вернуть чашку, хватка за мою руку вызывает в моей голове сигнал тревоги, и я смотрю вниз, туда, где его пальцы обхватывают мой бицепс. Он притягивает меня к себе, недостаточно сильно, чтобы повредить рубцы на моей спине, но достаточно, чтобы чашка выпала из моей руки и со звоном упала на бетон.
Положив ладонь на его бедро, я удерживаюсь от нелюбезного падения ему на грудь, и холодок спиралью поднимается по задней части моей шеи. Мышцы сведены и напряжены, я открываю рот, чтобы позвать охрану, мой голос прерывается от судорожного вздоха, когда он наклоняется ко мне. Так близко, что я чувствую жар, исходящий от его тела. Почувствовав запах мыла, все еще прилипшего к его коже. Сила, которой обладает этот человек, даже будучи закованным в цепи.
— Ты там в порядке? охранник окликает меня из конца коридора.
Золотые глаза поглощают мои, когда я пристально смотрю на Титуса.
— Я в порядке! Я просто… уронила чашку! Я не могу не задаться вопросом, будут ли это мои последние слова.
Вся моя рука умещается в ладони этого человека, и одним движением он мог бы легко сломать ее, если бы захотел.
— На твоем месте я был бы осторожен. Тон его голоса отражает его предупреждение, звук баритона вибрирует в моей груди, и возникающая в результате пульсация между ног побуждает меня сжать бедра.
— Как только они увидят на тебе свои метки, они не захотят видеть тебя без них.
Мой желудок не должен сейчас трепетать. Мое сердце не должно биться так сильно, что мне приходится дышать неглубоко, просто чтобы не отставать от него. И я действительно не должна быть так озабочена тем фактом, что его бедро ощущается под моей рукой как раскаленная сталь, особенно когда он говорит мне, что впереди еще больше боли.
Я выкручиваю руку, чтобы высвободиться, и он без колебаний отпускает меня.
— Значит, я должна стоять в стороне и позволить им изнасиловать меня? Спрашиваю я, отталкивая его в попытке успокоиться.
— Ни одна женщина не должна оставаться в стороне. Брови сведены вместе, он кажется почти обеспокоенным этой мыслью, если такая вещь вообще способна его беспокоить. Титус — такая же загадка, когда он говорит, как и когда он
отводит взгляд, держась особняком.
— Тогда, что ты хочешь, что бы я сделала? Я поднимаю упавшую чашку, расстроенная тем, что его прикосновение все еще обжигает мою кожу. Каждый нерв в моем теле кажется вдвое более восприимчивым, чем раньше.
Что мое сердце все еще бешено колотится.
Вместо ответа он отводит взгляд и снова замолкает. Он человек, который проиграл борьбу в себе, это очевидно. Независимо от того, что говорит Том или что произошло на той арене, они каким-то образом сломали его, и я рискну предположить, что шрамы на его коже говорят о том, каким образом они это сделали.
Не потрудившись позвать Тома, я возвращаю чашку в ведро и шаркающей походкой выхожу из его камеры, закрывая за собой дверь.
Пока я жду, когда охранник признает меня, я бездумно потираю место, где он прикоснулся ко мне, и хмурюсь от странной реакции моего тела на это. За последние пару недель я определенно познала страх, и это было не то, что я чувствовала сейчас. Это было что-то совершенно другое.
Глупая.
Выброс адреналина, вот и все. Тело вытворяет странные вещи, когда ему угрожают.
Только на самом деле он мне не угрожал.
Я мысленно отметаю это и заглядываю в комнату Уилла, чувствуя укол вины, когда его глаза загораются при виде меня. Когда он, наконец, достигает маленького окна и может охватить меня целиком, эти глаза устремляются к синяку на моей челюсти.
Боль притупилась настолько, что я и сама ее почти не замечаю.
— Это сделал Ремус? Он прикасался к тебе? Что он сделал, Талия? Сильный удар в дверь заглушает его гнев и приводит в ярость Бешенного в конце коридора, издающего рычание и щелканье зубов.
— Это была моя вина. Я спровоцировала. Это не больно.
— Он. Прикасался к тебе? Не то чтобы Уилл мог что-то с этим поделать, и не то чтобы я сказала ему, это причинило бы ему такую боль, если бы Ремус изнасиловал меня.
— Нет. Они, конечно, беспокоят, но он не прикасался ко мне таким образом.
Он хмурится, переводя взгляд вправо