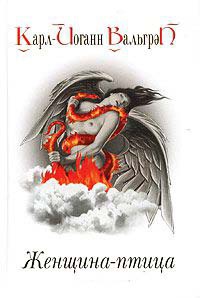— Я не могу, — сказал Хаман. Глаза его печально светились в полутьме. — Я здесь не один… и так нельзя, это неблагородно… А может быть, он ранен? Или убит?
Момент прошёл, сейчас казалось вообще невероятным, что между ними пробежала эта искра — только что Виктора сводила с ума нежность, теперь её сменил страх.
— Ты постоянно с ним?
— Да, уже год. Он спортсмен… борец. До него мне все изменяли… я не хочу его потерять… Наверное, там никого нет… тишина…
Момент безумия, внезапная страсть, насаженная на штык страха… её как будто и не было. Они подползли на корточках к выходу и отодвинули щит. В зале повсюду валялась мебель, поставленная на попа стойка бара возвышалась над ними, как средневековая башня, прикрывая вход в убежище. Это их, по-видимому, и спасло.
От «Микадо» осталось одно воспоминание. В песке лежали ножки стульев, кокосовые орехи, миксеры, поломанные столы, битое стекло, бутылки… всё это выглядело как остатки кораблекрушения. На стене были видны тёмно-красные пятна, и у них не было никакого желания устанавливать их происхождение. В мойку из крана текла вода, заливая месиво из кусочков льда, песка, поломанных бамбуковых палок и ещё чего-то… похоже на парик Лолы. Игла продолжала ритмично царапать пластинку, напоминая стихотворение о бессмысленности существования.
— Мы уцелели, — сказал Хаман. — Если и были убитые, они уволокли их с собой.
Игрушечный поезд потерпел крушение в спичечной бамбуковой роще; пролитые рюмки аквавита и кюммерлинга[47]валялись рядом с мигающим семафором; миниатюрный шлагбаум беззвучно поднимался и опускался каждые пять секунд.
«Жоподёры» — гласила надпись губной помадой на зеркале над входом. Это помада Лолы, вдруг понял Виктор. Её платье валялось на полу. Лужи крови впитались в песок, образовав ржавые комки.
— Если не возражаешь, — сказал Хаман и вытащил из кассы горсть купюр, неизвестно каким чудом оставшихся нетронутыми. — Там, где Лола сейчас, вряд ли думают о вечерней выручке.
Плафоны на потолке тоже были разбиты, голые лампы светили ярко и неприятно. У Хамана, разглядел Виктор, на переносице и скулах было множество веснушек. Шрам, похожий на сабельный, шёл от уголка рта к виску, что придавало ему весёлый вид — он чем-то напоминал клоуна.
— Коричневорубашечники, — сказал он и потрогал щёку, как раз в том месте, куда смотрел Виктор. — Два года назад в Тиргартене… ну там, где наши встречаются, ты знаешь… Они прятались в кустах. Я легко отделался — парень, с которым я был, получил пулю в живот. А меня они полоснули ножом и отпустили.
— Мы встретимся ещё?
— Может быть… возьми вот это…
Он протянул визитную карточку. «Г. Хаман, — стояло там. — Филателия и автографы. Кнезебекштрассе 27, Берлин, Шарлоттенбург».
— Я снимаю комнату. Квартирная хозяйка не позволяет пользоваться телефоном. Ты можешь заглянуть ко мне, скажи только, что интересуешься марками… Она уверена, что я помолвлен. «Не пора ли жениться, господин Хаман, — повторяет она каждую неделю, — пора уже вести вашу девушку в ратушу, не забудьте только спросить у неё справку об арийском происхождении, прежде чем давать клятву верности». У меня иногда появляется желание сказать: «Ничего подобного не будет, госпожа Хайнце, меня интересуют только мужчины. Большие и волосатые, маленькие и лысые, худые и толстые, любой подойдёт, был бы хороший огурец между ног». Честно говоря, я бы дорого заплатил, чтобы увидеть её физиономию. Она член их партии, квартальный надзиратель в Volkwohlfahrt. Во всех четырёх окнах флаги — пропустить невозможно. Так что заходи, если надумаешь…
Мы не сделали ничего плохого, подумал Виктор. Ничего грешного. Это не мы уроды. Уродлив мир. Никому мы не причинили вреда, это не мы разгромили «Микадо»… Вот так устроена жизнь: протягивает визитную карточку из бездны, сводит посреди кровавой катастрофы двух юношей… и нельзя определить, что плохо, а что хорошо, и никому не придётся ни за что отвечать, потому что бытие лишено справедливости.
— А ты не интересуешься автографами?
— Поддельными?
— Недорого. Ты хорошо целуешься. Что скажешь, например, об автографе парня, который за всем этим стоит? Самого Адше, нашего любимого вождя?
Из внутреннего кармана пиджака он достал пачку фотографий; на самом верхней был изображён Гитлер у чайного стола со своей любимой овчаркой, в гражданском платье. Автограф гласил: «С лучшими пожеланиями, Адольф Гитлер».
— Возьми любую. На память. Хорошо заработаешь. Партийные фанатики отдадут последнее за подлинную фотографию фюрера… У меня и Геринг есть, в старой лётной форме. И Рифеншталь… она после Олимпиады распоряжается огромными деньгами. То же со Шмелингом; у меня есть его фотография в белых боксёрских перчатках, запачканных кровью. «Спортивный привет от Макса» — и подпись.
Виктор взял несколько подписанных фотографий.
— Пошли отсюда, — сказал Хаман, — а то они вспомнят, что забыли раскурочить железную дорогу Мерклина, и вернутся. В полиции нравов служат основательные типы.
И они ушли вместе, непокорно выпрямив спины… Они вышли на задний двор, где обыватели приседали за полузакрытыми шторами, потом на улицу… и пошли, пошли, словно бы ничего особенного и не случилось на Ноллендорфплац.
Когда Виктор тем же вечером доехал надземкой до Гёрлитцен Банхоф, была уже полночь. Пережитый им ужас постепенно перешёл в желание хоть как-то запечатлеть его в изображении. Тушь… или акварель, какой-нибудь материал с высокой энтропией, только не масло с его неторопливостью. Мотив рос, обретал динамику и форму — надо было спешить. Будущий рисунок заполнил всю его душу, все эти странные залы и чуланы сознания, где создаются и хранятся цветовые и пластические аккорды… но недолго, совсем недолго: их вытесняют другие, а потом и те растворяются — слишком большой объём, память с её ограниченными ресурсами не в состоянии хранить столько информации. Но сейчас он шёл по улице, и мотив обрастал деталями, элегантными формами, трущимися друг о друга геометрическими узорами, размытой перспективой. На своём внутреннем полотне Виктор уже создал этот рисунок, но он знал, что он недолговечен, надо как можно скорее перенести его куда-то, прежде чем он утонет в себе самом.
Картина должна была представлять разгромленный «Микадо», а среди разгрома — люди с портретов, лежащих у него во внутреннем кармане пиджака. И сам он тоже там, как и фальсификатор автографов Георг Хаман. Высвобожденные из оков центральной перспективы, они целуются на заднем плане со всей страстью, которую только можно передать посредством теней на лицах влюблённых. Они невидимы для преступников, словно ангелы в земных одеждах, губы страстно приоткрыты, вьются языки, словно две яркие коралловые рыбки… а Макс Шмелинг и Лени Рифеншталь (один в окровавленных боксёрских перчатках, другая с неизменной кинокамерой) с удовольствием любуются результатами погрома. Хромой Геббельс блюёт в раковину с Лолиным париком на голове, а Гитлер оставляет автограф — губной помадой на входе в грот, где они прятались.