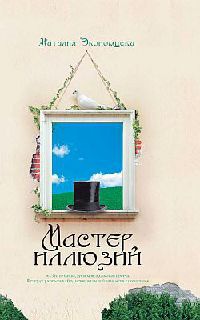Как таковая, биография Пиздодуева отличалась прозрачною простотою. Он был доставлен в Москву, как и писалось выше, из Данетотово, что неподалеку от Кимр, где берет начало река, затеваясь маленьким ручейком и разливаясь в районе Нижнего Новгорода собственно в то, что и принято называть Волгой. Оттуда — и все остальное, что так запомнилось, чтобы не сказать полюбилось, в его стихах, столь вялых, тягучих и непривычно-покойных для изнеженной нервозности горожанина, уже генетически, как бы задним числом, ушибленного катаклизмами прошлого и безрассудно добитого злобами текущего дня.
Впрочем, судите сами: избы с прохудившейся то там то сям кровлей да обвислая пакля, порассованная меж рассохшихся бревен; сонное постукивание ставен на горячем с ленцой ветру да жужжание мух, мерно бьющихся о стекло; тут же старик с козой-самокруткой в непослушных корявых зубах, притулившийся в тени на завалинке за бесхозным пустым гумном; слегка покривившийся в лихолетья, но изрядный еще забор; изнуренная солнцем дворовая птица, ищущая забвения в лопухах; коровы, бредущие, опустив долу морды, под заунывное бряцанье колокольцев с закатных выгоревших полей; кузнечики, вяло потрескивающие по берегам усохших канав, на дне которых извиваются головастики, вдавливаясь брюшком в остатки прогретой жижи; трясогузки, выглядывающие из-за куста, с ними бобры, глухари, вертихвостки и прочая сволочь, которой несть числа и которая водится по всей великой Руси, не говоря о завоеванных территориях.
Таков, в общих чертах, охват описываемых Пиздодуевым явлений. Откуда же горечь? — спросите вы. Так вот. На самом дне отстоявшегося данетотовского бытия чудился Степану зев пустоты, прорва, которая вот-вот да и поглотит всю эту раздумчивую картину. А не проваливалось Данетотово в тартарары оттого, что озарялось извне чем-то еще, что было осмысленнее земной юдоли, что звало за собой в далекие дали, где, вне зависимости от погод, всегда празднично и печально, где иные просторы и иная, неотличимая от жизни смерть. Эта тоска по высокому не раз приковывала поэта к окну его московской квартиры, из которого открывался вид на Воробьевы горы и стремительно уходящую ввысь башню каменной университетской громады.
Перемены
Университетов Степан не кончал, что не помешало ему занять пост председателя поэтической секции Союза российских писателей. Отчего именно он был назначен на столь высокий выборный пост, сказать трудно, вероятно, тут есть и тайна. Впрочем, другие поэты взяли «самоотвод», поскольку незадолго до «выборов» от председателя перестало что-либо зависеть, он превратился в пустую номинальную единицу, ибо распределение благ было пущено по иным, заведомо никому не известным, каналам. Стало совсем не ясным, как и о чем писать, чтобы застолбить себе, к примеру, пенсионный паек или место на кладбище в Комарове по соседству с Ахматовой. Старая тематика расползлась, а новая все никак не могла обрести костяк, склоняясь туда-сюда под ветром истории.
Впрочем, с недавних пор тянуло в сторону православия и гэбэ, представители коих слились воедино, точно одни для других и были созданы. И карты выпали так, что человеку со стороны, если он не гэбист или поп, пойди разберись. Хотя таких, вопреки ожиданиям, оказалось немного, да и те в основном разбирались.
Один прозаик, к примеру, разобрался в три месяца, пройдя в рекордные сроки путь от партайгеноссе советской литературы до матерого главаря Объединенных Православных Писателей, выступив с программным произведением «Христиане и нелюди» и объездив с ним чуть ли не все города и веси своей епархии. В состав дрейфующей делегации ОПэПэ входил сам прозаик, другие члены, а также его мать-старушка, никогда прежде не выезжавшая из Зажопинска и решившая напоследок посмотреть мир своими глазами. Правда, она скончалась почти сразу, и ее пришлось возить за собой в хрустальном гробу — то в купе, то в каюте, ибо матушка, умирая, наказала схоронить себя в Жопокпюеве, который, по преданию, был городом ее детства, а дорога на Жопоклюев в планах дрейфистов пока что не значилась. Ну да о старушке это так, к слову. Вернемся к поэтам.
Не только источник благ стал неустановим, но и сами блага изменились до неузнаваемости. В буквальном смысле нельзя было понять — блага это или нет, настолько трансформировались их способы потребления и состав. Даже если кое-кому из поэтической секции случалось наткнуться на «нужного человечка», это ничего не решало, так как на кой черт поэту кирпичный или стекольный завод, который ему — вероятно, по пьяни — тут же и предлагали. Все остальное — как то: крупу и пряники — приходилось теперь покупать за свои кровные деньги.
Пиздодуев появлялся в Союзе наскоками, то есть внезапно наскакивал в надежде застать там пару-тройку коллег и, будучи терзаем нездешней тоской, выспросить насчет того, есть ли жизнь, скажем, на Марсе, но — увы. Его секция была пуста, так как поэты рыскали по Москве в поисках бабок, намыть которые они могли только в обход Союза. Тут надо отдать кесарю кесарево и сказать, что поэты были гонимы нуждою не бытовою, но творческой. В данной альтернативе, при недокормленности малых детей или заброшенности, не раз без куска хлеба, престарелых родителей, всегда выбиралось третье — гонорар издателю, если последний, поломавшись, соглашался его взять.
Беда состояла в том, что издатели, высвободившись из-под гнета чахлой не по годам системы, вдруг растерялись. Сначала они долго думали, а потом, чтобы чего не вышло, в срочном порядке окликнули съезд в Балчуг Кемпински, на котором была утверждена декларация прав человека, условно названного «читатель», предписывающая, что следует: подвергать цензуре все то, что могло бы ущемить «читателя» как в его национальном (русском), так и религиозном (РП) достоинстве. К «читателям», как наиболее перспективных, причислили моряков, горняков и оленеводов достаточно отдаленной от всего Камчатки. Издателей возвели в особый неприкасаемый класс. О писателях не помянули ни словом. «Произведение», в самом огульном смысле, признали продуктом вторичным, то есть «произведенным от книги», которая, получив независимость от посягательств автора, выросла в самодовлеющую единицу. Вследствие таких перемен издатели стали еще более капризны, обидчивы и скупы. Общественная значимость художника резко пошла на убыль, а сам он был низведен до роли просителя, обивающего пороги не там и не так, как прежде. Но ничего этого Пиздодуев, мерно расхаживающий по гулким пустым коридорам Союза, не знал. В своем стремлении к вечному он был одинок.
Поэт и деньги
При кажущейся простоте биографии Пиздодуева, о которой упоминалось выше, многое в ней остается неясным. Достаточно будет сказать, что Пиздодуев, в отличие от других небожителей, в поисках денег не рыскал, так как в них не нуждался. Правда, Степан не пил, у него не было ни детей, ни, говорят, даже родителей, но это лишь отговорка, а объяснение вот каково:
Фашиствующие организации с легким антисемитским уклоном, общество приверженцев патриархального быта «Рататуй», ультрапатриотическая партия «А теперь — Россия!», а также отцы церкви (народники) рвали стихи Пиздодуева прямо из его рук практически за любые деньги. Почему? — не поверите вы.
Во-первых, в стихах Степана не было ничего сознательно привнесенного, освещенного светом разума. Труха ли, пепел ли, тлен — мирное течение жизни по праву вершило свою повинность. Все, что попадало в поле зрения Пиздодуева, самостийно, без чьего-либо участия перемалывалось в жерновах времени, старело, ветшало и, наконец, вовсе разваливалось, что возвращало нас к нашим истокам, напоминая, откуда и кто мы.