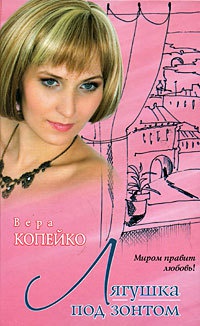Я не знаю почему, по какому случаю, на коленках нет волос, а повыше кучею! —
голосил он драматически, словно возвещая о грядущем конце света.
Понятно, что из-за таких проделок глядели на Гурия как на старичка смешного, но к серьезному делу негодного. Сам же дед в веселую минуту аттестовывал себя так:
— У народа, у языкотворца, выжил горький забулдыга-подмастерье.
При хорошем настроении дурь его достигала пределов ойкумены: он был убежден, что его знают даже на том берегу Амура, знают — и прислушиваются к нему.
Гурий, как уже говорилось, в лечебных целях часто кушал водку и самогон, вследствие чего допивался до чертей, среди которых был один особенно большой и наглый, так что Гурий поклонялся ему как зеленому змию, тому самому, что выгнал Адама и Еву из рая. Однажды дед допился до таких чертей, что стал этими самыми чертями водку закусывать — ему вдруг стыдно сделалось, что он кушает, не закусывая.
Кроме неформального статуса старого пердуна у деда Гурия имелся и официальный чин: он принадлежал к Большому совету, который разрешал в поселке самые важные вопросы и в который помимо него входили отец Михаил и староста Андрон. Это было очень удобно, потому что, когда приходилось решать сомнительное дело, всегда вперед дубовой заслонкой выставляли деда Гурия. Если дело решалось к выгоде русской общины, то и славно, если же нет, можно было не выполнять общих решений, ссылаясь на умственную немощь парламентера.
Когда русская деревня задолжала еврейской столько денег, что цифру вслух даже произносить было неудобно, как обычно, прикрылись дедом Гурием. Он, заявила заимодавцам русская община, все разрешит в наилучшем виде.
И впрямь, когда ввечеру следующего дня еврейская делегация, состоявшая из Иегуды бен Исраэля, тихого Менахема и банковского деятеля Арончика, чинно постучалась в покосившуюся избушку Гурия, изнутри раздался дребезжащий приветливый голос:
— Заходите, жидки, не заперто!
Евреи вошли в дверь, озираясь по сторонам испуганно — как бы по старости дом не обвалился прямо на них. Дед Гурий сидел за длинным неструганым столом и щерился беззубой улыбкой, отчасти напоминая тем Бабушку Древесную лягушку. Гости, помявшись и не дождавшись приглашения, молча сели по другую сторону стола и воззрились на Гурия.
Тот жестом уличного фокусника достал из-под стола трехлитровую длинную бутыль, в которой взмывал и пенился самогон. Разлив мыльную жидкость по оловянным кружкам, дед крякнул и сказал, озирая делегацию веселым глазом:
— Ну, жидки, выпьем?
Жидки покорно выпили, после чего почувствовали себя от самогона не совсем хорошо. Однако дело ждать не могло, поэтому, пересилив себя, взялись все-таки за переговоры.
— Мы пришли, пан Гурий, по известному вам вопросу… — начал было Иегуда.
— Еще выпьем? — перебил его дед Гурий, разливая по новой.
Отказаться было неудобно, так что выпили еще. В глазах у делегации все поплыло и перевернулось вверх дном.
— Чувствительно просим панство в обозначенные сроки вернуть… — опять заговорил Иегуда, едва справившись с икотой, неизвестно откуда возникшей в его старой еврейской груди.
— Ну что, жидки, по третьей накатим? — не слушая его, спросил дед Гурий
Поняв, что разговора не состоится, жидки молча встали и ушли, не прощаясь…
Конечно, то был нетипичный случай — случай, когда простотой и искренностью удалось преодолеть дьявольскую изворотливость. Обычно же хитростью евреи превосходили даже китайцев, не говоря про русского человека, который так честен и прям, что даже если и обманет кого по простоте душевной, то непременно себе в ущерб.
Впрочем, ошибки совершали и осторожные евреи. Прослышав из неизвестных источников, что китайцы употребляют крыс, еврейская молодежь во главе с Арончиком изловила одну, побольше и покосматее, и принесла ходе Василию — посмотреть, как он будет есть ее живьем. Делегация вопросительно стояла на ступенях ходиного дома, жертвенная же крыса, вблизи несколько похожая на черта, злобно пищала, поднятая за хвост цепкими руками Арончика, и гнулась во все стороны, желая цапнуть обидчика за палец. Некоторое время ходя Василий смотрел на крысу с непроницаемым лицом, потом перевел взгляд на евреев и теперь глядел уже на них — с тем же примерно выражением.
— Ну что, — спросили его нетерпеливо, — будете кушать?
— Это не та крыса, — отвечал ходя, — ешьте сами.
Обиженные отказом, евреи бросили крысу в Амур, где она, с поднятыми над водой усами, булькая и задыхаясь, поплыла на ту сторону, а сами молча разошлись по домам.
Другая драматическая история вышла, когда уполномоченный еврей из района заплутал в лесу. Еврею этому, хоть и уполномоченному, пришлось солоно — беглые уголовники встретили его в чаще, избили и обобрали до нитки, до голых подштанников. Полдня, подчиняясь ветхозаветным инстинктам, брел он невесть куда, пока, на свою беду, не выбрел к Амуру, точнехонько к китайской части села. Обрадованный донельзя, он вошел в дом к временному китайскому старосте и попросил о помощи. Гао Синь долго рассматривал его сквозь мудрый прищур в глазах, потом улыбнулся одобрительно и сказал:
— Сейчас я людей соберу, а вы перед ними потанцуете немного…
— Как это — потанцую? — изумился еврей. Он был партийным и не позволял себе танцевать даже перед Богом, не говоря уже о посторонних китайцах. — С какой стати мне танцевать, зачем?
— Жизнь очень тяжелая, много работаем, — вздохнул староста. — Надо поразвлечься чуть-чуть, вар-вар будем делать, а то совсем нехорошо.
Уполномоченный еврей танцевать отказался наотрез, но последствия этого все равно были самые неприятные. Евреи обиделись на китайцев и даже на некоторое время прервали с ними всякие деловые отношения. Встречая же на улице ходю Василия, евреи вместо приветствия улюлюкали и кричали:
— Ходя, станцуй!
Ходя не танцевал, зато из домов, словно тараканы из щелей, выходили китайцы и смотрели на евреев неприятно, без всякого выражения на смуглых и желтых лицах.
Однако все это были мелкие огорчения, которые мгновенно забылись перед лицом по-настоящему большой беды.
Как-то темной ночью в четверг, когда все китайцы давным-давно улеглись спать, в фанзу к старосте Гао Синю кто-то постучался. Думая, что это кто-нибудь из соплеменников пришел просить деньги в долг или, наоборот, предаться любви с Айнюй, которую как раз привезли с того берега на любовную страду, староста, не спрашивая, отпер двери.
Уже отперев, он понял, что совершил роковую ошибку.
На пороге стояли двое чужих.
Одеты они были как все охотники, но староста безошибочным китайским нюхом уловил, что это чужие. Лица у чужих были застывшие, как у людей, державших смерть в руках.
Гао Синь сделал вид, что ничего не заметил, и хотел побыстрее захлопнуть дверь, но один из двух, который повыше, поставил ногу на порог.