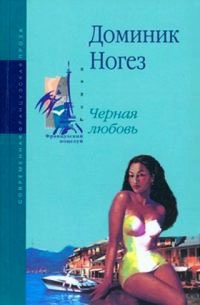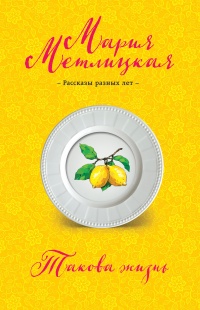Вечером я увидела то же солнце, огромное, как три полные луны; оно мгновенно укатилось куда-то вниз, за поля, оставив нас в темноте; могла ли я знать, что все уже было разыграно в его багровом свете!
На следующий день, после обеда, Джульетта исчезла. Мне лишь передали по ее просьбе, что она отправилась на прогулку. Слегка обеспокоенная, я пошла искать ее на пляж, где услышала еще одну новость: «Вон там тоже исчез мальчик». — «Не тот ли, что поцеловал ее?» — «Нет, второй». Два часа спустя она наконец явилась (Романо пришел чуть раньше); я бросила «вон туда» довольно свирепый взгляд, но до времени промолчала.
Когда назавтра Джульетта попросила разрешения прогуляться, я обняла ее за талию (она только что вышла из ванной и зябко куталась в свой махровый халатик) и сказала: «Я так понимаю, что прогуляться — значит, сходить на свидание?» — «Не с тем, с кем ты думаешь!» — «Да нет, я знаю, с другим. Вспомни-ка своих братьев; вспомни, что они говорят о девочках…»
Мне не известно, где они встречались, где ходили. Улицы этого городка вели в заросли осин и акаций, в парки, огороженные колючей проволокой; впрочем, для влюбленных всегда найдутся лазейки и укромные места.
Я не собираюсь подглядывать за ними, следить и заставать врасплох, но мысль об их ласках не дает мне покоя, и я страдаю от того, что перестала быть желанной, что никогда не была Джульеттой, ибо кто мог любить меня — меня в ее возрасте?! Я выросла в краю запретов, где любовь — синоним материнства, секса или смерти.
И я провожу дни в ожидании их прихода, и каждое их появление — счастье для меня. Но сами они — что тот, что другая — мрачны и молчаливы, и лица их отмечены одним и тем же знаком надменного, пламенного нетерпения.
Ибо это первая любовь, и седьмой день, тот самый, что имеет вкус Творения.
Море отхлынуло, оставив вместо себя влажную тину с лужицами, и на этой зыбкой почве Романо, только-только возникший из небытия, играет в мяч. Я не отрываю глаз от его силуэта, вдвойне черного на белом заднике Адриатики. Его профиль с решительным носом, перечеркивающим небо, вдруг посылает в нашу сторону искорку взгляда. Я с улыбкой говорю об этой беглой звездочке Джульетте, которая не переносит, когда я завожу речь о нем.
Крошечная девчушка плачет, обняв ногу отца, точно колонну храма. Люди проходят с транзисторами в руках (еще один, портативный, алтарь!), оставляя за собой обрывки голосов своих богов; боги кричат, удаляются и, совсем как на Олимпе, перебивают друг друга.
Да, все началось с игры на этом золотисто-сером песке. Из хохочущей свалки молодых и старых вышли, с грацией детей Вирсавии,[10]двое черных подростков.
Джульетта, сидевшая на берегу в своей розовой тунике с белыми помпонами — немыми колокольчиками, — смотрела на них. Можно было принять мальчиков за братьев, если бы не разное выражение лиц: одно более благородное, второе более необузданное. Кто же сделал выбор — она? Или они?
Рыбачий городок, превратившийся в курорт… Широкая река обтекает его двумя холодными рукавами, а вода в море стоит так низко, что никакому кораблю тут не причалить. Но местные жители вырыли каналы, и потому в самом сердце города вдруг, неожиданно натыкаешься на мачты и паруса.
Сюда-то я и пришла теперь, когда провожу большую часть дня в одиночестве; пришла, чтобы побродить вдали от больших отелей и скопления людей. Морские птицы с пронзительными криками носятся над заброшенными тростниковыми шалашами на берегу. Я переплыла одно из речных устьев — не без труда, так как холодное течение упорно сносило меня на середину, — а потом долго шагала по щиколотку в воде, в двух водах, пресной и соленой, которые обдавали меня слева ледяными, справа теплыми брызгами своих волн. Наконец я вышла на сухой песчаный берег; под моими ногами с треском рассыпались хрупкие мелкие ракушки. Среди колючих репейников поблескивали разбитые бутылки, — увы, ни в одной из них не было послания для меня!
Я — старая сирена, ныне внушающая мужчинам только страх, но прежде я много любила их и доселе люблю детенышей мужчин.
И больше всего — этого. Как мне хотелось бы обнять его и убаюкать, прижав к груди! На этом лице с темно-розовыми, почти черными губами иногда вспыхивает обжигающая меня белая молния не то улыбки, не то взгляда. Но он с каждым днем становится все серьезнее, все задумчивее и опускает глаза, когда я смотрю на него. Погруженный в мечты, он похож на заблудившегося ребенка, который ждет, когда его найдут. Он больше не разговаривает, не смеется, и на щеке его прорезалась морщинка. О, его мучит не жара (погода вновь испортилась), а новое, пугающее чувство, всей силы и разрушающей сладости которого ему прежде не доводилось знать.
Он, ранее возглавлявший петушиный парад своих товарищей, ныне утратил интерес к играм, тихо и скромно сидит в сторонке, но от этого его присутствие согревает не меньше, а сильнее. Он стал воплощением любви, истинным Амуром, и флюиды обожания, потоком текущие к Джульетте, не минуют и меня, ибо она моя дочь.
Вот почему мне хорошо на пляже только рядом с ними; я не хожу туда в их отсутствие. Романо, боготворящий Джульетту, осеняет меня, сам того не зная, странной благодатью, которой я наслаждаюсь не без некоторого смущения…
На дорожке, мощенной плитами, куда ноги нанесли столько песка, что он стал мягче пыли, мне удалось наконец поймать его взгляд. Я удержала его своим и — получила немое признание его угольно-черных глаз, искренних и решительных. Ах, этот гордый вид!.. Меня пронзило таинственное ощущение спокойствия за Джульетту, что шла следом и обратила к Романо лицо, которое я предпочла не видеть. Чего же он ждал от меня? Я с улыбкой поздоровалась с ним. Но может быть, он считает меня врагом?
Они так полны друг другом, что не видят и не слышат ничего вокруг. Когда я обращаюсь к Джульетте, недвижной, как статуя, она, словно очнувшись от глубокого сна, удивленно переспрашивает: «Что-что?» Но зато она невиданно похорошела, и маленькие девочки на пляже помогают ей раздеваться, словно фрейлины королеве, и входят в воду только вместе с ней. И это с ней все здороваются первыми и прислуживают ей первой. Молодые люди наклоняются и разглядывают ее смуглый животик, словно на нем запечатлены все тайны мира.
А я — я задыхаюсь от одиночества.
Сегодня вечером я ушла из гостиницы и долго сидела на террасе маленького кафе, на площади старого города, красной и черной от множества людей, слушая музыку духового оркестра. Какой-то мужчина подсел ко мне, принялся слегка ухаживать. Он угостил меня мороженым и заговорил о любви. Я вздрогнула при виде золотой цепочки с медальоном у него на шее, но этот медальон двигался явно меньше, чем у Романо, и потому оставил белый след на загорелой коже. Кавалер мой отважился на несколько комплиментов. Всем ли зрелым женщинам они льстят? «Ах, — сказала я, — любовь великолепна только в ранней юности. Ведь это самое жестокое из всех зеркал!» Он запротестовал, но каждый его жест выдавал невольную, инстинктивную сдержанность. «Он экономит силы оттого, что стар…» Я почувствовала неприятную жалость к нему и к себе самой. Он был, кажется, разочарован, но нисколько не обижен.