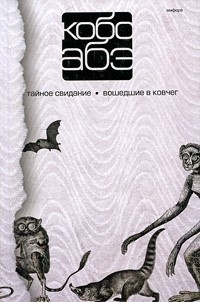подробно мне писать. С желудком будьте осторожны. Ради Бога! Я узнаю нельзя ли посылать посылки в Париж, — ведь у нас все еще такое доброкачественное, все, что надо для больных «ulcus duodeni»115 и «ventrikel»[85]. M. б. и позволят. И второе: обязательно, непременно пришлите Ваш портрет! Тот, который уже есть, который Ивику нравится. Я очень, очень жду. У меня есть в Ваших книжках и Вы в памяти, когда читали. Мне никакие «неточности» не помешают. Умоляю, вышлите тотчас же!
Получили мое письмо от 27-го VII? Мой портрет тоже очень приукрашен. Я потому его не посылала долго. Но послала все же его именно, т. к. взгляд там мой, и сущность моя есть. Фотограф был русский, или из России вернее, по профессии юрист, но дошел до совершенства и был известен в Берлине. Снимал всю знать и артисток. Он говорил со мной на разные темы, заставлял реагировать невольно и снимал невзначай будто. Я не знала. Было масса снимков. Есть и с глазами, но неудачно, т. к. это единственный [раз], когда он позволил сесть в позу. Ну и вышла «поза».
До свидания! Ваша О. Б.
Тепло и ласку шлю Вам вдаль!! —
У нас такой разгром в доме, мастера работают, и пишу я на туалетном столике.
26. VIII М. б. после Вашего письма я немного понимаю надпись на «Чаше», но все же объясните! Да?
Сейчас пришло и лекарство! Спасибо!!! —
36
О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву
31. VIII.41
Дорогой Иван Сергеевич!
Все это время душа моя поет в радости неописуемой. Ваше письмо невозможно охватить сразу, нельзя на него ответить словами. Писала Вам вчера — 4 листа, но не посылаю. Все не то! И сейчас мне не дается. Я все еще взволнована слишком. И это письмо — не ответ еще. Напишу еще. Пою, пою целыми днями. Пою все, что знаю, — от молитв наших чудных и народных песен, — до избитых модных «танцулек». Простите мне это? Я иногда такая какая-то шалая бываю и даже увлекаюсь (конечно в шутку) каким-нибудь «shlager'oм». Как чуть останусь я одна — все мысли с Вами, но и все остальное время — невысказанно Вы в моей душе… Я сама не знаю, отчего это такая сила, влекущая все движения души к Вам. Мне бы хотелось писать Вам очень много, и много рассказать Вам о себе116, но мысль, что письма должны быть прочитаны еще и другими, — останавливает и парализует порыв. Я сказала бы Вам многое, — от девочки Оли и до теперь. Я провела бы Вас чрез взлеты, искры, молитвы, слезы, — чрез темноту отчаяния, выброшенности из жизни, ненужности, чрез все обиды, любовь и жертву, через тоску о «Вечном», чрез много увлечений ума и сердца, и, Боже мой (!), — чрез сколько разочарований! —
И сколько было чудесного, «укрытости», милости Божьей. И Вы бы поняли все, милый, м_и_л_ы_й… М. б. я напишу еще. Не знаю…
Как хорошо бы было вдруг очутиться у Вас, в Париже! Я множество себе рисую вариантов нашей встречи.
То мы идем по полю, в цветах и солнце, в чудесном теплом ветре, — то в шуме волн и плеске океана я слушаю Ваш голос, — то… в храме я узнаю Вас среди толпы и радостно внимаю сияющему «Хвалите» в торжественном блеске вспыхнувших паникадил, — и опускаюсь на колени на «Слава в вышних Богу»117… А то у Вашего камина, уютно в тишине, внимая дроби дождя о стекла и плачу ветра в осенней стуже, там, за окном. И всюду — Вы чудесный, родной, — далекий и бесконечно близкий… Но нет, Вы не хотите, чтобы я появилась. Я чувствовала это, когда читала Ваше: «до свидания, конечно в письмах». И Ваши страхи за отплытие мне от «пристани», и все вообще. Вы не хотите. Но почему? Не говорите, я не спрашиваю… Но я не мыслю не увидеть Вас. И все же верю, что увижу! Вы не хотите?
Если бы Вы знали, как много в жизни я переживала сердцем, как себя я не любила, как хуже, хуже всех себя считала… А вот Вы говорите такое… такое совсем другое. Разве я могу все так вот принять на свое конто[86], — нет, я боюсь, что Вы ошиблись. И поймите меня, как я хочу отдать себя на суд Вам справедливый. Я бесконечно боюсь ошибки, разочарования во мне у Вас. Вы понимаете, что это для меня значит?? Я боюсь, что в письмах я другая, лучше, что ли. Ах, нет, не надо, не вызывайте меня к искусству, — я ничего не значу, не могу. Ведь так давно я все в себе похоронила. Теперь уж поздно. Писать на холсте я не умею, — мне не хватает школы, — поймите, как это ужасно! Гореть, желать и… не мочь. Я не могу писать. И учиться _п_о_з_д_н_о… Все в этом слове. Писать словами, — я тоже не умею. Писать красиво могу лишь Вам… И почему? Быть может, то Ваш гипноз, гипноз Вашего великого Таланта?! А я по впечатлительности воспринимаю…
Мне вдруг так стало горько, горько. И ничего я не умею… Не смею поверить, что я в жизни такая, как говорите Вы… Перечитала еще письмо Ваше. Господи, как я хотела бы Вашего праведного суда. Тогда бы я м. б. снова получила в себя Веру им. б. могла бы что-нибудь «суметь»?
Получили Вы мое письмо от 27-го июля?
Я ни на что не способна. Плохая хозяйка даже, т. к. мне думать и мечтать хочется, а не хозяйством заниматься. Но все же надо! — Все эти дни масса дела. Устраиваться надо… Потому пока что не пишу больше, т. е. длинное. Скоро напишу. Мечтаю поехать отдохнуть. Устала я за лето. Масса бывала гостей, почти все лето. И переезд. Прислугу найти трудно. Хочется к лесу, к грибам… Ах, если бы в Париж! — Вчера узнала, что никакие посылки не разрешают. О визе не хлопочу — Вы не хотите. Это не упрек, а подчинение Вашей воле. Сию минуту стало мне очень грустно, и Вы уж не сердитесь. Жду Вашего портрета. Непременно. «Глаза» для Вас раздобыть постараюсь, — как только приду в себя и в норму.
[На полях: ] Пишите мне почаще!
Здоровы ли Вы? Я волнуюсь.
Получили ли мое письмо от 24.VIII с Wickenburgh'oм?
Попробуйте эти перья — м. б. они лучше пишут, Вы как-то писали, что острые Вы не любите.
Шлю Вам, мой друг далекий, привет из сердца. Услышьте!