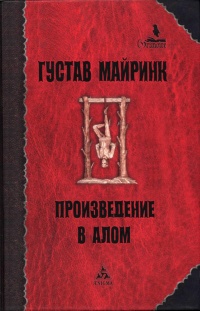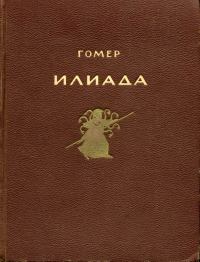видит, говорили мы. Вот еще Искандер Двурогий, рога растопырил – не обойдешь[12], добавляли.
Правда, с теми, кто его нрав одобрял, он и «ассалом!», и «алейкум!». Дружбу водил, сердце открывал, не таился.
А кто ему не по сердцу, тем и «ассалом» не скажет! Видно, паренек нас ни во что не ставит, думали мы.
Видно, кто-то из нас ему по душе, а кто-то – не так уж.
В глубине-то души он к нам тянулся. Любил нас, сочувствовал и сострадал. Все люди должны между собой быть как братья, которые из одной утробы, – так говорил.
Но если хоть что одно плохое от нас заметит… Тут уж, как говорится, руки после нас моет и под мышку себе сует. Явится – ни «ассалома», ни «алейкума». Отвернется, словом ни с кем не перемолвится, бровь хмурит, нос морщит. Как отгадаешь, что у него на душе?
Такой нелюдимец!
Вдаль глазом упрется – ресница не дрогнет.
Мы, конечно, тоже туда глянем, куда он уставился. Пусто до самого края земли. Так вот. Ну, хоть бы облако какое.
Так он и жил, удивляя нас и поражая.
А спросишь о чем-нибудь, только «да – нет», и весь привет.
Дадим ему, бывало, воду. Он на нее вылупится, будто в первый раз увидал. И головой по-своему качает.
Нам, конечно, неприятно. Благодарность хочется услышать.
«Ты скажи что-нибудь человеческое».
«Что сказать?»
«Ну хоть “да воздастся вам добром” скажи…»
А он сядет, колени обхватит. И вдаль – на вершины Бабатага – задумчиво глядит. И не отрываясь от Бабатага, произнесет:
– «Правдивая речь – в сердце, а с языка сорвется – уже ложь».
И еще – из всех певцов только одного признавал. Это, говорит, Юнус Раджаби[13].
Когда Юнус Раджаби поет, то, если какие говорильщики и кашляльщики рядом, паренек наш их взглядом прожигает. А уж если зубоскальщики – прямо стрелу в них целит.
Сам, когда Юнус Раджаби поет, голову склонит, дивится, слушает.
Он… он и сам поет!
Пойдет за холм, где трава погуще. Косит-косит, потом вокруг глянет. Никого рядом, совсем один. Из скошенной травы подушку устроит. Руки под голову, глаза – в небо, где облака белоснежные, как хлопковые хирманы[14], и стаи воробьиные чирик-чирик… И давай носом песню мычать. Едва-едва губы шевелятся.
Вот от этого паренька и явились свахи!
3
Эсан-мясник сразу отрезал:
– От кого? От Каплона?[15] Не бывать этому!
– Мясник, не торопитесь, не горячитесь.
– Хочу – горячусь, хочу – не горячусь! Он же ни «ассалом», ни «алейкум» не знает!
– Мясник, говорят: слушай сердцем, не ушами, гляди умом, а не глазами. Уши-глаза обмануть могут.
– Да он на человека не похож!
Тут уж свахи все свое искусство употребляют. Слово к слову на Мясникова отца разговор переводят, нахваливают:
– Отец-то, мир его праху, какой хороший человек был…
– Какой храбрый был…
– Какой щедрый был…
– Эсанбай-мясник немного на отца похож…
– Что ты говоришь, Эсанбай – вылитый отец…
– Да в чем же вылитый?
– А в том: настоящий мусульманин, со словом не спешит, не торопится…
Так свахи под конец отца незаметно к сыну приплели, так что Эсан-мясник послушал-послушал, да и смягчился.
– Ничего, – говорит, – сейчас вам не скажу. Совет держать буду. В родне недостатка нет, да и супруга моя, которая с детства о девочке заботится… Приходите еще раз, посоветуемся.
4
Девушка самой младшей в семье была, с пяти лет круглой сиротой росла.
Осталась у брата на руках.
Жена брата целый день бровь хмурит, нос морщит.
Нахмурит бровь – сиротка не дышит. Только глазами хлоп-хлоп, глаза круглые, как яблоки. Со всех ног бежит. За колыбель племянника обеими рука схватится, давай ее качать, старательно, с душой.
«Вот колыбельку покачаю, сноха бровь разгладит, ругать не станет…»
Вот о чем сиротка мечтала!
Голодает, бывало. Палец сосет. А звука не издаст.
Мясничиха дастархан стелет. Сиротку подзывает. Та тихонько к дастархану подойдет. Палец посасывает, на сноху грустно глядит. И на дастархан, палец посасывая, грустно глядит. Наконец, палец изо рта вытащит, к дастархану протянет. Сперва пальцем угол стола тронет. Оттуда уже к самому дастархану тихо-тихо переберется. А там и к краю лепешки притронется.
Отломит сиротка кусочек лепешки, на сноху глянет, надкусит, пожует тихонечко.
На словах-то сиротка Мясничиху любила-почитала, а в душе обиду копила.
По правде, ни брат, ни сноха сиротку от своих детишек не отличали. И все же понимала сиротка, есть в этом доме между ней и племянниками разница.
То сиротка – друг искренний, то замкнется, затоскует.
Тихоня, одним словом.
Жизнь сиротка, точно буковки разглядывала, все мелкие поступки и слова замечала. Самые плохие в сердце складывала.
Чуткая.
Еще зернышком была, а уже взрослыми глазами на мир смотрела. На все внимание обратит. Такое оно дело сиротское.
А ведь сиротка девушкой была, и какой!
Кипарис, одним словом!
Лицо ее белоснежным назвать – против правды погрешить, смуглым назвать – девушку обидеть.
Как спелая пшеница – вот какого цвета!
Сама полной луной сияет, саратанской звездой мерцает[16], косы дождем-грозой рассыпает. Косы друг о дружку бьются, словно устремляются к кому-то… Иначе разве струились бы так они, по коленкам шлепая?
А черная родинка в уголке тонких губ? А ямочка на подбородке?
А про ту, которая на правой щеке, мы и говорить не станем!
5
Как сказал Мясник, так и сделал.
Теперь как родня-кумовья, собравшись, решат, так судьба сиротки и устроится.
6
Снова свахи пожаловали.
Два дня с первого их прихода прошло.
А родня-кумовья одни одно говорили, другие – другое.
Третьи недовольные ушли.
Каждый свое слово самым важным считал.
Мясник, бывало, усадит каждого, о сестренке речь заводит. Мясничиха на кухню бежит…
7
Сиротка Аймомо[17] племянника кислым молоком кормит, на сноху стыдливо поглядывает. На себя посмотрит: с головы расшитый платок ниспадает, на плечи ложится. Платье книзу оттянула, коленки прикрыла.
Племянник ручку выпростал, к матери потянулся.
Сноха сиротку обняла.
Долго-долго на нее глядит, едва-едва заметно усмехается.
На грудь ее руку кладет:
– Ты что-то сказала?
– Что я сказала?
– Не притворяйся, скажи хоть что. Сватать приходили.
– Кого?
– Не меня же! Тебя.
– Ах, что я вам сделала? Оставьте меня.
Хмурится Аймомо. К казанку, где масло скворчит-шипит, отворачивается.
Угли кочергой ворошит.
Ярко огонь разгорается.
Племянник к матери потянулся:
– Нямнямку дай! Нямнямку…
Мать взяла его, грудь дала.
– Переживай – не переживай, это уже для нашей головы забота. Мы же за тебя тоже переживаем. Смотри, как племянник твой завертелся…
– Говорят, замуж выйти