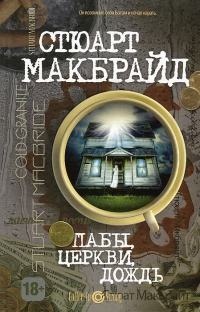не нужно?
– Расследуйте что хотите. Хетти была суровой бабой. Суровая из-за суровой жизни. Но хорошая. В их доме штаны носила она. Пиджак делал все, что она велела. Не считая случаев, – она хихикнула, – когда доходило до сыра.
– Сыра?
– В одном корпусе каждую первую субботу месяца раздают бесплатный сыр. Хетти это терпеть не могла. Они все время из-за этого ссорились. Но за этим исключением жили в ладу.
– Как думаете, что с ней случилось?
– Пошла в гавань и утопилась. С тех пор в этой церкви дела идут скверно.
– Почему она, по-вашему, утопилась?
– Видать, устала.
Катоха вздохнул.
– Так мне в рапорте и писать?
– Пишите что хотите. Сказать по правде, я надеюсь, что Пиджак уже смотал удочки. Димс не стоит того, чтобы садиться из-за него в тюрьму. Больше нет.
– Понимаю. Но этот ваш вооружен. Может, и опасен. А из-за этого становится опасно на улицах.
Сестра Го фыркнула.
– Тут опасно вот уже четыре года как, с тех пор как появился этот новый наркотик. Эта новая дурь – не знаю, как называется, – ее курят, ее вкалывают в вены шприцами… что ни делай, а стоит попробовать несколько раз, как уже не слезешь. Ничего подобного я здесь не видела, а я повидала многое. В районе все было хорошо, пока не появился новый наркотик. Теперь каждый вечер стариков избивают, когда они возвращаются с работы, отнимают получку, хоть ее и так кот наплакал, только чтобы торчки могли купить еще отравы у Димса. Ему должно быть стыдно. Будь его дедушка еще жив, пришиб бы его на месте.
– Понимаю. Но этот ваш не может вершить суд самолично. Вот для чего придумали это. – Катоха поднял ордер.
Теперь ее лицо посуровело, между ними снова разверзлось пространство.
– Так работайте. А раз уж начали разбрасываться ордерами, может, выпишете ордер и на того, кто спер деньги нашего Рождественского клуба. Думаю, там тыщи две будет.
– Это еще что такое?
– Рождественский клуб. Каждый год мы собирали деньги, чтобы купить подарки нашим детям на Рождество. Их собирала и хранила в коробочке Хетти. Она была умница. Ни единой душе не говорила, где прячет деньги, и каждое Рождество выдавала на руки без обмана. Незадача в том, что теперь ее нет, а Пиджак не знает, где их искать.
– Почему бы его не спросить?
Сестра Го рассмеялась.
– Если б он знал, уже отдал бы. Пиджак не стал бы воровать у церкви. Даже за стакан.
– Я видел, как за стакан люди творили и что похуже.
Сестра Го нахмурилась, на ее чистом приятном лице нарисовалась досада.
– Вы добрый человек, я вижу. Но в этой церкви народ бедный. Мы копим гроши на рождественские гостинцы детям. Молимся друг за друга Богу-искупителю и тем живем. Наши рождественские деньги пропали, и скорее всего навсегда, и выходит, на то божья воля. Для вас, полиции, это ничего не значит, кроме разве что подозрения, будто их мог взять Пиджак. Но тут вы ошибаетесь. Пиджак сам бы в гавань бросился, а не взял бы ни пенни ни у одной души в этом мире. Случилось с ним только одно: он упился вдрызг и попытался очистить район одним махом. И теперь я в жизни не видела столько копов, которые все вверх дном переворачивают, лишь бы его найти. О чем нам это говорит?
– Мы хотим его защитить. Клеменс работает на страшных людей. Они-то нам на самом деле и нужны.
– Вот и арестуйте Димса. И всех остальных, кто торгует этой дьявольщиной.
Катоха вздохнул.
– Двадцать лет назад я бы еще так и сделал. Но не сегодня.
Он почувствовал, как пространство между ними смыкается, причем он себе это не навыдумывал. Сестра Го тоже почувствовала. Ощутила его доброту, его честность и сознательность. И ощутила что-то еще. Что-то огромное. Как будто где-то внутри него засел духовный магнит и притягивал ее. Это удивляло, пронимало, даже будоражило. Она следила глазами, как он поднимается на ноги и идет к двери. Быстро встала и проводила его по проходу – Катоха что-то нервно напевал про себя, пробираясь на выход мимо дровяной печи по опилкам на полу, а она искоса его изучала. Она не чувствовала себя так c мужчиной с тех пор, как однажды днем за ней в школу пришел отец после того, как белые ребята избили мальчика из ее класса, – не чувствовала таких уюта и надежности, которые излучает человек, кому она небезразлична. Да еще и белый. Странно, удивительно это было чувствовать с мужчиной – с любым, особенно с незнакомцем. Ей казалось, будто она спит.
Они задержались у двери.
– Если дьякон покажется, передайте, что с нами ему будет надежней, – сказал Катоха.
Сестра Го уже хотела было ответить, когда из притвора раздался голос:
– Где мой папа?
Это был Толстопалый. Он поднялся из подвала и сидел на складном стуле в сумраке рядом со входной дверью – глаза закрыты привычными очками, покачивался взад-вперед, как обычно. В подвале пел хор – очевидно, никто не думал за ним следить, ведь Толстопалый знал церковь не хуже других и часто любил бродить по крошечной постройке сам по себе.
Сестра Го взяла его под локоть, чтобы поднять.
– Палый, г’ван на репетицию, – сказала она. – Я скоро приду.
Толстопалый нехотя встал. Она бережно развернула его и положила его ладонь на перила лестницы. Они провожали взглядом, как он спускается в подвал и пропадает там.
Когда Палый скрылся из виду, Катоха сказал:
– Я так понимаю, это его сын.
Сестра Го промолчала.
– Вы так и не сказали, в каком корпусе живет этот ваш, – сказал он.
– А вы не спрашивали. – Она отвернулась к окну, спиной к полицейскому, и нервно потерла ладони, глядя на улицу.
– Мне спуститься и спросить его сына?
– Зачем? Вы же видите, мальчик недоразвитый.
– Уж где его дом, он знает, в этом я уверен.
Она вздохнула, не отворачиваясь от окна.
– Ответьте мне: что хорошего в том, чтобы посадить единственного, кто здесь сделал хоть что-то правильное?
– Это не я решаю.
– Я уже ответила. Пиджака найти просто. Он где-то в округе.
– Мне записать, что вы лжете? Мы его не видели.
Ее лицо помрачнело.
– Пишите как пожелаете. Как бы ни легла карта, а стоит вам посадить Пиджака, соцслужба заберет Толстопалого. Зашлет его в Бронкс или Квинс, и только мы его и видели. А это сын Хетти. Хетти родила его в сорок лет. Для женщины это уже поздновато. А для той, кто прожил такую суровую жизнь, тем более.
– Мне жаль. Но и это не мне