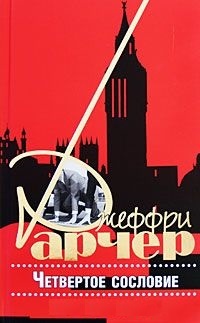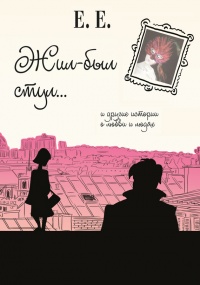Здесь ему стало страшно.
«А не получится ли тогда, — думал он, — что тебя будто вообще не существует? И что бы это значило?»
Он представил себе несчастное, бесплотное существование, которое рисовалось ему в воображении не чем иным, как полной дезориентацией, бытием, состоявшим исключительно из чувства паники, и безо всякого внешнего проявления того, что, за неимением лучшего слова, называется миром; и сейчас же вызывал в мыслях дополнительную, «счастливую», составляющую такого «несуществования» — свободно льющееся животное ощущение радости в себе и вокруг себя.
И он с удовольствием продолжил рисовать себе пустыню. В воображении она представлялась ему веселенькой рощицей на ровной покатой земле, наподобие той, что окружала «Гранд-отель» в Северной Калифорнии, где он летом обычно отдыхал с женой и ее родственниками.
Такой представлялась ему пустыня — местом идеального равновесия, где не холодно и не жарко, где ты не голоден, но и не чересчур сыт.
«Это не покой, — думал он. — Это „равновесие“. Но вот солнце начинает садиться, и куда бы я направился? Конечно же к нашему кочевью — Кочевью в Пустыне, — где посреди деревьев стоит шатер, устланный прекрасными турецкими коврами. В очаге, обложенном камнями, пылает огонь, а над ним установлен медный треножник. Юная девушка готовит мне ужин, и по шатру разносится запах кофе.
Я вхожу, она поднимает на меня глаза — их взгляд нежен и покорен, он полон любви. „Женщина моего племени“. Да, — думал он. — Я волен как угодно долго смаковать эту фразу. Кто может мне помешать? „Женщина моего племени“. Вот только, — решил он, — нос у нее должен быть прямым, никаких горбинок».
* * *
Свет погас. Он сидел один, в темноте, в воздухе стоял запах пота и немытых мужских тел. Время от времени ветер менял направление и тогда в камеру доносился аромат полей.
«А мерзкий запах вполне может быть одним из признаков плодовитости, — размышлял он. — Но я не могу так думать.
Скоро я засну. Может, христиане и правы, и мы действительно должны все взять и раздать бедным. Что ж, если они это сделают, я сделаю тоже».
ЕГО ВИДЕНИЕ
— Вопрос, — заметил раввин, — можно поставить и по-другому.
Когда вспоминаешь прошлое, то кажется, что там были некие предостерегающие знаки. Но поскольку ты оставил их без внимания (если, конечно, они вообще существовали), то какая от них польза? Что они дают, кроме запоздалого утешающего осознания своего могущества?
— В точку, — продолжил раввин. — Мы можем стонать и сокрушаться: «Откуда мне было знать?» — и одновременно поздравлять себя со всеведением: «Мне был знак. Просто я не обратил внимания». Аргумент, конечно, совершенно бессмысленный. Ведь если знак действительно был, тогда почему не прислушался? А если не прислушался, то был ли это знак? Чего только не найдешь в собственной памяти, чтобы создать приглядный образ самого себя, увидеть себя в приятном свете? Но это свойство вполне можно использовать, чтобы не позволить себе впасть в идолопоклонство.
Раввин покачал головой, придвинулся ближе к столу, посмотрел на Франка, нахмурился и снова заговорил:
— Суть, видите ли, в том, что мы верим в собственное могущество. Ибо если мы уверуем в нашу власть над тем, что принято называть «случайностью», если мы уже неспособны осознать свое бессилие, свою смертность, значит, мы провозгласили себя Богом.
А если мы — Бог, то что нам недоступно? Нам дозволено все.
Сложность заключается в том, чтобы встроить в эту теорию собственную слабость. Ту слабость, с которой мы сталкиваемся ежедневно и во всех возможных проявлениях. Ну разве легко примирить реальное ощущение этой слабости с верой, будто ты есть Бог?
И тогда столкнувшись с этой проблемой, мы говорим: «Я знал, что сегодня пойдет дождь. Мне следовало взять зонт!»
Но тогда в конце-то концов, почему ты его не взял?
Почему человек, утверждающий, будто у него был не просто выбор, а нечто большее, ибо помимо возможности выбирать он обладал Высшим Знанием, почему такой человек не взял зонт? Да просто он не знал, что пойдет дождь, вот почему. «Ага, — возразите вы на это. — Но ведь некий наблюдательный человек, скажем сельский житель, который понимает… Если небо… погода… Он-то наверняка мог знать, что скоро будет дождь!» — Раввин пожал плечами. — Так почему же он не захватил зонтик?
Он посмотрел на Франка с таким выражением, будто говорил: «Я человек бесхитростный, беззащитный. И сейчас я стою перед вами совершенно безоружный. Вы можете делать со мной все, что хотите».
— Ну и где тут правда? «Ага, — скажете вы. — Но могли быть и контраргументы, чтобы не брать зонт». Действительно, их можно найти всегда. Человек посмотрел на небо. Предположил, что может пойти дождь. И решил не обременять себя зонтом. Или, скажем, зонт был убран, а он очень торопился и не помнил, где его искать. Или чувствовал, что зонт слишком старый и выглядит неважно, а у него важная встреча… Вы понимаете, о чем я? — Раввин сделал паузу и продолжал: — Или наоборот, зонт был слишком уж изящным… — Он поискал слово. — Слишком элегантным… И человек подумал, что эта вещь будет смотреться неуместно в обществе тех людей, с которыми он намеревался встретиться в тот день.
А может, он вообще хотел себе же сделать хуже.
Тут раввин воздел руки, будто говоря: «Разве мы не взрослые люди, чтобы бояться таких предположений?»
— Может, он с кем-то повздорил и стыдился этого. И, подумав, что пойдет дождь, пришел к следующему выводу: «Я знаю лучший путь, но сознательно выбираю худший», пожелав тем самым причинить себе неудобство, реализовав таким образом ненависть к самому себе. Впрочем, возможно, ни одно из этих предположений в действительности не верно, и он просто очень хотел показать, что имеет власть над силами природы, которым на самом деле вынужден подчиняться. Кто знает? Вопрос остается: если у него был выбор, почему он его не сделал? Если выбора не было, зачем утверждать обратное? Человеческий мозг создан для того, чтобы сравнивать.
Он помолчал. Потом вздохнул и вынул из нагрудного кармана пиджака пачку сигарет. Протянул ее Франку, тот кивнул и взял сигарету.
Раввин тоже взял одну и вынул из кармана спичку. Потом положил обе руки на стол, зажав спичку между пальцами правой руки. Посмотрел вниз, на смятую пачку, лежавшую между ним и Франком.
Франк взглянул на раввина.
«Как может нееврей понять еврея?» — подумал он.
В тюремной библиотеке пахло старой бумагой. Через окно в комнату прорвался запах разогретой на солнце хвои. Раввин уронил спичку на стол. Потом поднял ее, царапнул по оборотной стороне столешницы, закурил сам и дал прикурить Франку.
— Вы сказали, что в тот день вам был знак, «видение», предупреждавшее: идти на фабрику не следует. Так, может быть, вам и не надо было туда идти? — Он пожал плечами. — «Что есть мечта? Что есть видение? Что есть реальность?» Я думаю, это вопросы для мирского ума. Понимаете меня? А что будет после того, как вы познаете все реальное? Во-первых, кому вы это расскажете? А во-вторых, сделает ли это вас счастливее? И наконец, нужно ли такое знание для служения Богу?