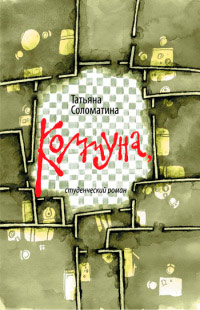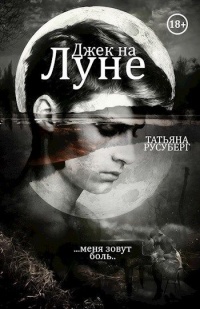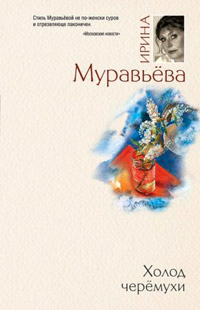Сил не нашлось и потом – у представлений, мыслей не было решимости и силы. Нежно, смиренно подумал об Ариане, смиренность давала облегчение, но и только, ничего больше. Затем вспомнились дети, всплыло несколько картинок, это, конечно, воспоминания, он махал детям, словно арестант, посаженный за решетку, на какой срок – бог его знает. Грета живет, все забыв, и ее забывчивость уже никак не связана с ним, он ей не нужен. У нее ведь есть доверенность, она может распоряжаться всеми деньгами. Взносы за дом внесены, долгов нет. Гроб с его телом унесли, он все оставил Грете. Глупые мысли, ну их к чертям, – сволочные мысли.
Спустился в холл, взял свежий международный выпуск «Геральд трибюн». Уже вошел в лифт, чтобы подняться в номер, и тут увидел, как с улицы в отель входит Хофман с объемистым пакетом в руках, бутылки там, конечно, что же еще. Хофман его сразу заметил, ничем не выдал своего удивления, однако даже не подумал хотя бы кивнуть, двинулся прямиком к портье. Дверь лифта с негромким скрежетом задвинулась. «Извини!» – крикнул Лашен, когда лифт пришел в движение. Присев на скамеечку в углу, постарался дышать как можно спокойнее и ровнее.
Вчера на старом базаре возле порта опять произошло нападение на мусульман. На фотографии в газете он насчитал двенадцать убитых, уложенных в ряд, плотно, на тротуаре. Из-за сильного увеличения лица на снимке размыты, начисто лишены контрастов. На заднем плане – припаркованный военный грузовик, на переднем – мужчина в офицерском мундире, без оружия, одна нога выставлена вперед, должно быть, снят на ходу. Под фотографией подпись в кавычках: «Акция возмездия христианской милиции». Место? Он узнал его – угол улицы Нахр Ибрахим и площади Мучеников. Он еще раньше описал обычную ежедневную суету на этой площади, набросал несколько дней назад, теперь пригодится, остается лишь добавить к старому тексту рассказ о вчерашних убийствах. Очень просто, да, никаких возражений. А еще добавить заметки, сделанные пока вчерне, например вот эту, о том, как некоторым торговцам все же удавалось доставить на базар свое добро и тогда – правда, в течение недолгого времени – шла торговля, продавали и покупали огурцы, арбузы и баклажаны, горами наваливали капустные кочаны, бананы и большие пучки петрушки. Расстрелянный автомобиль с работающим мотором стоит в гараже, ворота настежь, за рулем толстый молодой парень со сверкающими серебряными зубами, машину он превратил в лавку менялы. Люди должны подходить к водительскому окну поодиночке, всех остальных парень, сердито шикая и бранясь сквозь зубы, отгоняет подальше. Осколки стекла, камни, куски штукатурки, тряпье, обрывки бумаги и гнилые овощи, валявшиеся на площади, сметены в пестрые кучи. «Вот так в светлое время суток линия огня представляет собой лишь воображаемую, не настоящую границу, которую можно пересекать в обоих направлениях до тех пор, пока на площадь не явится новая банда убийц». Он отложил перо.
«Акцию возмездия» опять устроили люди в масках. Картины восточного базара и сцены убийства были сцеплены друг с другом короткими сдержанными фразами, никаких эмоций. Он написал – как будто видел своими глазами, – что офицер прошелся вдоль ряда убитых, словно принимал парад почетного караула. Сегодня, отбросив сомнения, он твердо решил, что может быть довольным своим новым очерком. Кое-где в нем выражалось и с трудом сдерживаемое возмущение, в достаточном количестве. Сегодня, впервые с тех пор как приехал в Бейрут, он снял футляр с портативной пишущей машинки. Перепечатал очерк. Восемь с половиной страниц. Он сложил их и сунул в ящик письменного стола.
16
Кажется, будто он очень давно в Бейруте, по меньшей мере несколько месяцев, а на самом-то деле всего девять дней. Дома уже лето, колышутся пшеничные поля, на лугах пестро от белых и желтых цветов, Грета в легком платье с мягкими складками у пояса словно помолодела, улыбается, в глазах любопытство.
Думая о доме, он всегда представлял себе лето. Лепестки роз начали закручиваться наружу, осенью они опадут, побуревшие розовые лепестки, но не сейчас, сейчас еще появляются новые бутоны, а розы, что раскрылись давно, продержатся долго-долго. Ариана – он старался хотя бы какое-то время не думать о ней – кажется недоступной, в сущности неприкосновенной, женщиной, которая отдалась ему лишь потому, что их связь для нее ровным счетом ничего не значит. Ни польстить ей, ни обидеть ее он не может, значит, он ее недостоин. Раз ты для нее не опасен, значит, ты ее недостоин. Да, конечно, она упрекала его, и каждое слово ударяло в самое больное место, но дальше упреков не пошла, просто не сочла нужным. Ей легко было бы расстаться с ним, без печали и без волнения, так же как она его приняла. Чувствовал, она становится сильнее, она, сама того не желая, все настойчивее подталкивает его к чему-то более определенному. Ты ей нравишься, – именно это слово она выбрала, и оно позволяет ей сохранять полнейшую независимость и право в любую минуту прогнать тебя.
Интервью с Арафатом, на которое он рассчитывал, то ли состоится, то ли нет, эта встреча уже стала чем-то необязательным, незачем упорно ее добиваться. Ведь и в редакции, и на этаже, где кабинет главного, уже наверняка почувствовали, и читатели тоже чувствуют, что не слишком много значит, дашь ты или не дашь высказаться одному из важнейших заправил здешних событий. А все-таки жаль, что Хофман не сделал вчера фотографий старого базара после убийств. Надо попытаться получить фотографии через агентства, не беда, если в Гамбурге потом вычтут эти дополнительные расходы.
Ариана лишь чуть-чуть, намеком, дала понять, что у нее есть характер. Чтобы не почивал на лаврах и не ждал от нее услужливости. Но сразу же снова затаилась, замаскировалась. Хотела, чтобы он что-то понял, но не думал, что она оказывает давление. Он не должен думать, что все в полном порядке, но также не должен и чувствовать, что своим разочарованием она хочет заставить его измениться.
Или дома еще весна? Над ярко блестящими черепичными крышами темное небо, тяжелое от нависших туч, но есть и просветы, и там еще угадываешь все сочные цвета и краски. Зелень, непривычно резкая, словно впервые пробивается из дождливо-снежного безрадостного запустения, вздрагивая в легком ознобе. Ветки лоснятся, и вспаханная земля лоснится, и все растения становятся плотнее, наполняются, преисполняются. Тени четче, влажный воздух теплее. Как собака, бездомная собака, он бродил по равнинам, пока еще открытым взору, пригибался под тяжелыми лапами сосен в лесном заповеднике, шел по мягкой, пружинящей под ногами хвое, был как пес со вздыбленным загривком, настороженно прислушивающийся к легчайшему шороху. Тепло, солнце пригревает, тучи мошкары назойливо вьются над головой. Глаза Греты застыли, в них безутешность, словно тоска по прошлому, которое решительно отвергнуто. Он обнял Грету, и, уткнувшись ему в плечо, она затряслась от рыданий без слез. Это было два года тому назад, эти переживания уже умерли, ушли в глубину. А всего месяц назад было Рождество, и рождественские дни еще можно, пожалуй, считать воспоминанием. Он подарил Грете часы, она ему – светло-бежевый, почти белый шерстяной пуловер. И обняла. Несколько минут они были вместе, и ожили многие прежние чувства, но ожили как воспоминания. Дети смотрели на них лукаво и смущенно. Потом, вспомнив о плохом, они оторвались друг от друга. Ему тогда показалось, будто они встретились за пределами жизни и, обнявшись, умчались куда-то, где могло вновь стать важным то, что было для них важным когда-то давно. Нет, он не упрекнул себя, но лучше было бы все же вытерпеть горькую пустую правду, чем принуждать, силой принуждать себя к самообману и тешиться иллюзией своей защищенности.