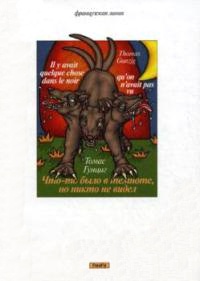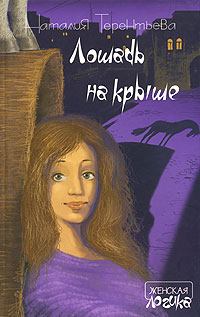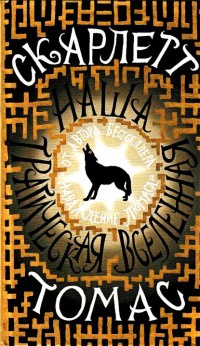Ее обнаружил пришедший маляр.
Она потеряла сознание, и это был не просто обморок. Ей пришлось провести две недели в Неаполе, в клинике, где лежало всякое злобное старичье и где не с кем было даже подружиться, если не считать врача, Леонарда Радницки, немца и меломана (жена, которая его бросила, была довольно известной итальянской певицей); он знал ее, любил ее записи, прекрасно лечил и поставил на ноги.
Она осаждала доктора Радницки просьбами о выписке: ей не терпелось вернуться на виллу «Амалия», которую он считал слишком удаленной от цивилизации.
В конце концов он разрешил ей уехать, с условием, что она снимет на Искье номер в гостинице «Мавры». Хотя бы на короткое время. Пока она окончательно окрепнет, сделает дополнительные анализы и пройдет необходимое обследование.
И еще он запретил ей плавать одной в бухте.
Она приходила на виллу «Амалия» в дневное время. Электрик и каменщик давно уже кончили работу. Плотник и маляр завершали свои дела. Когда рабочие уходили, она оставалась на террасе и читала. А с наступлением вечера шла в отель, расположенный в сотне метров от ее дома.
Глава X
Справа от конторки портье в отеле «Мавры» находилось огромное помещение, разделенное на три части: просторный салон с баром, пианино, глубокими клубными кожаными креслами и низенькими столиками, где всегда собиралось много постояльцев.
За ним была библиотека с неярким освещением, красивым камином XVIII века, который нельзя было топить, и широкими серыми креслами.
И наконец, бывший игорный зал с бильярдным столом в центре (его сукно прикрывали две створки с прелестной старинной инкрустацией), с пуфами мавританской кожи и слегка пыльным, но необыкновенно уютным шезлонгом. Сюда никто никогда не заглядывал. Здесь-то она и пила свой аперитив в полном одиночестве. Цветы бугенвиллеи и грозди глицинии заслоняли снаружи широкие окна, из-за этого в комнате было довольно темно, и в дождливые дни даже как-то тоскливо. Но зато в этом уголке царил покой, а летом и прохлада.
Как-то в пятницу вечером туда наведался доктор Радницки.
Он сказал ей, что часто останавливается в этом отеле, когда приезжает в Неаполь один. Потому-то он и назвал ей этот адрес, сочтя необходимым предписать отдых. Он любил морскую рыбалку. В данный момент он готовился к подводной охоте между Виварой и Прочидой, у подножия так называемой скалы Петрония.
Он стоял, склонившись над картой бухты, разложенной на инкрустированных створках бильярда.
На ней были помечены все, даже самые дикие бухты, самые затерянные тропинки островов.
Она протянула руку, чтобы показать ему дом с голубой крышей.
– Это здесь, – сказала она.
– Что именно?
– Место, где находится рай.
И коснулась пальцем маленького черного квадратика в конце тропинки.
Внезапно она ощутила его тело, близость его тела рядом с собой.
– На самом деле он должен быть голубым.
– Значит, перед пиком Молина. И перед виллой Нэузи Боцци.
– Нужно пройти по скалам, со стороны моря.
– Нет.
– Да взгляните же!
И она поднесла лампу к инкрустированным створкам. Но его взгляд вдруг привлекло это женское лицо, засиявшее радостью при виде виллы на карте. Он снова нагнулся. Остров был обведен голубой каймой. Его висок коснулся ее виска, и они посмотрели друг на друга.
* * *
Они поужинали вместе. Он рассказал, что послезавтра у него будет очень важный день. Бывшая супруга привезет ему дочь из Нью-Йорка. Он ждал этого с некоторой тревогой.
– Как ее зовут?
– Магдалена.
Потом они поднялись вдвоем в номер Леонарда.
Ночью, на лоджии, она сказала Лео Радницки:
– Мне кажется, во мне сидит какое-то пассивное упорство, от которого идут все несчастья моей жизни.
– Пассивное?
– Да. Это трудно понять, но я думаю, что все дело в нем.
– А ведь вы женщина свободная, одинокая и создали столько замечательных произведений…
– Я мало что создала. И одинока не так уж давно. Я тратила время на мужчин, которые меня не любили. Вы разведены?
– Да.
– У вас есть подруга?
– Нет.
На следующий день они отправились в лодке на Прочиду.
И он нырнул, как и собирался, в подводный грот Петрония.
Он разрешил ей плавать, но рядом, под его наблюдением. Они провели вместе все дневные часы и обе ночи. Она показала ему свой дом.
Глава XI
– Нет, не могу сказать, что в детстве я так уж сразу почувствовала любовь к музыке. И это не было призванием. Это было гораздо страшнее, и я была еще слишком мала, чтобы говорить о призвании. Скорее, это можно назвать чувством панического головокружения. Мой отец был музыкантом, но то, что я ощущала, не имело никакого отношения к отцу. Это походило на приступ ужаса. Когда чудится, будто вы вовлечены в бешеный водоворот эмоций, который грозит гибелью. И вы понимаете, что из него не выбраться. Что вы сейчас пойдете ко дну. И не на что опереться, чтобы обрести равновесие. Такое бывает, когда человек сильно влюблен. По крайней мере, я определяю это именно так. Вам знакомо подобное головокружение? Это верный знак. Бездна тут, рядом, она разверзается и действительно поглощает вас. Я узнала это всеобъемлющее, сжигающее тело и душу чувство только однажды. Когда была совсем маленькой. Не помню, сколько мне было лет. Но я еще не умела читать.
Нам, обоим детям, запрещалось подниматься на второй этаж, где жил мой дед.
Когда я говорю про деда, я имею в виду отца моей матери. Второго я вообще не знала.
И вот я крадусь по лестнице, крадусь по черному паркету коридора, сама не зная, что меня туда толкает, не зная, чем мне это грозит, и наконец отворяю дверь. Их было там четверо, и все играли. От них исходил оглушительный шум. Более грозный, чем шум океана. Рядом с каждым из них стоял торшер. Перед каждым из них стоял деревянный пюпитр. Мой дед щекой прикоснулся к скрипке. Он был самым старым из всех, и он играл с закрытыми глазами. Мой отец – а он был всесторонне одарен – мог играть на любом инструменте. Кажется, тогда он вел партию альта. Никто не слышал, как я вошла. Они исполняли что-то невероятно быстрое. Исполняли какое-то потрясающее произведение. Теперь мне кажется, что это был Шуберт.
Молодая женщина со скрипкой сидела лицом ко мне, но ее широко раскрытые глаза меня не видели. Она мне улыбалась, но ее глаза меня не видели.
Здесь царила печаль – слишком глубокая, головокружительная, неумолчная, и она все ширилась и ширилась.
Слишком глубокая печаль – притом что для маленьких детей не существует слишком глубокой печали. Малыши знают страхи – примитивные, первобытные страхи, не основанные ни на каком жизненном опыте страхи, которые потом никогда не встречаются на их пути. Худшие из всех. Животные печали.