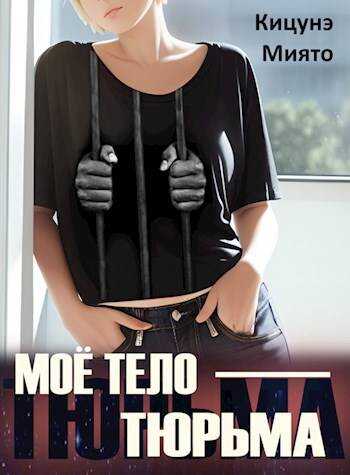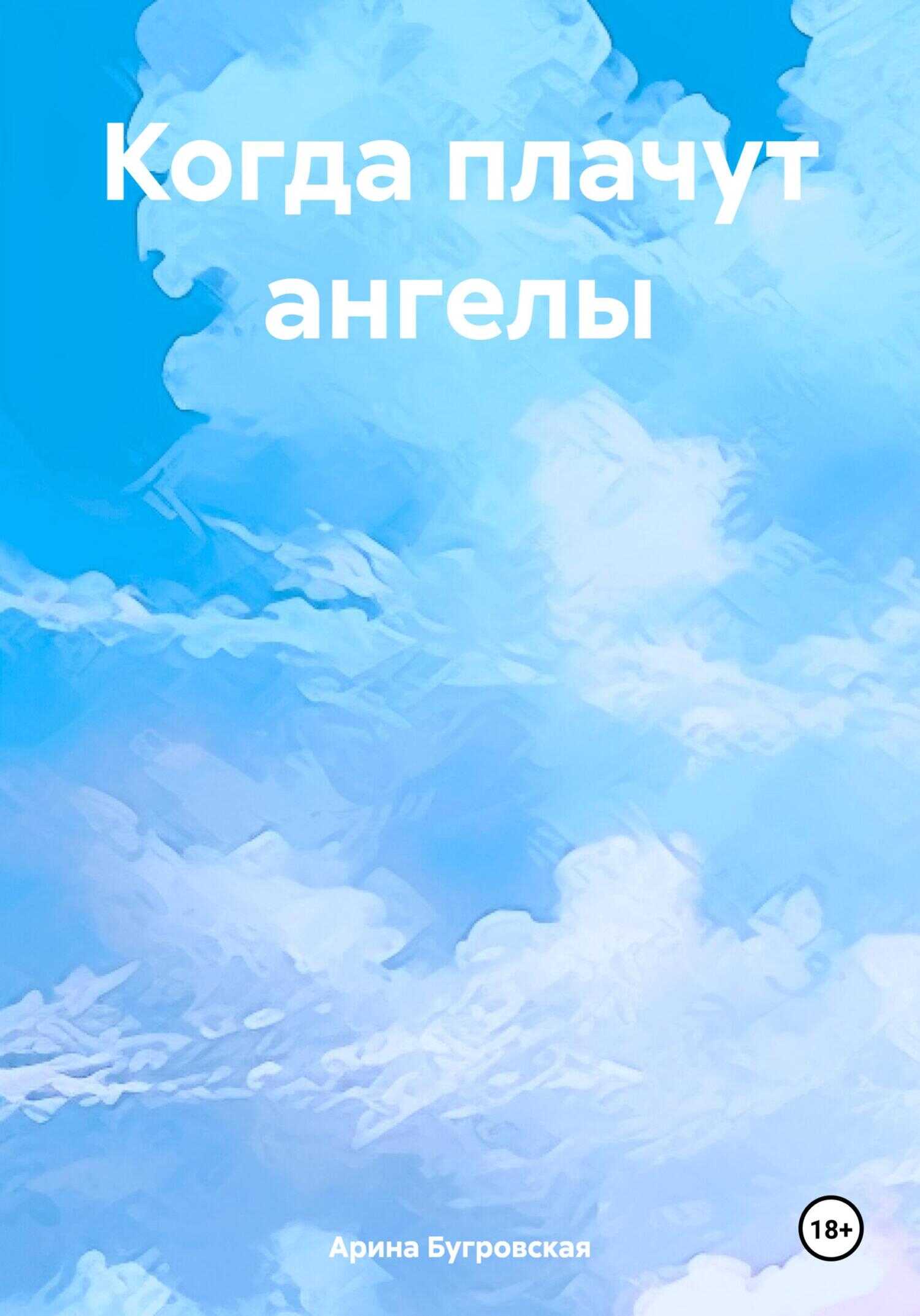Маму тем временем решительно достает из-под вешалки коричневый медицинский саквояж, а следом – большую лопату. Кому придет в голову хранить дома лопату, как обычные люди хранят зонтики?
Маму кладет лопату на плечо, и мы устремляемся к машине. Дверь она не запирает.
По дороге Маму, мрачно сжимая руль, забрасывает меня вопросами о том, что мы делали в лесу, и о том, что мы видели. Температура. Расположение органов. Степень разложения. Половая принадлежность.
– Кажется, это был самец, – предполагаю я. – Но я не уверена. Тело было разворочено, и куски… ну…
– Что «ну»?! – требовательно рычит Маму.
– Как будто их отрезали или откусили. А еще там были булавки.
– Хм… – выдыхает Маму и бросает на меня сердитый взгляд. В этом она мастер. В этом, а еще в искусстве недовольно коситься.
– В той лисе было что-то… – Сама не знаю, зачем я это говорю, но остановиться уже не могу. – Что-то… Там было тепло. Слишком тепло.
Я слышу, как мой голос дрожит от страха. Это раздражает. Я хочу быть спокойной. Я должна быть спокойной. Это всего лишь мертвое животное. Я видела их на автобусной остановке и на обочинах. Неотъемлемая часть деревенской жизни. Бояться нечего.
Маму поворачивает голову и смотрит на меня, как сова – на мелкую пичужку.
– С кровью много чего можно сделать, – говорит она. – И порой после этого остаются следы.
– Вы хотите сказать, что лису… – я старательно подыскиваю правильное слово, – принесли в жертву? И это сделал человек?
– Мы больше не будем обсуждать это, пока не закончим! – решительно отрезает Маму. – Никогда не знаешь, кто может тебя подслушать.
У меня вырывается смешок. Она, наверное, прикалывается. Я не совсем понимаю, что кроется в изгибе ее бровей – шутка или угроза. Маму глушит мотор на залитой лунным светом полянке и достает из багажника фонарь и лопату.
– Дальше пешком, – говорит она, держа фонарь над головой, как ночной сторож в стародавние времена.
Мы идем целую вечность. В темноте трудно определить расстояние. Все вокруг кажется диким и незнакомым. Под ногами пружинят опавшие листья. Наконец мы останавливаемся, и Маму протягивает мне лопату:
– Копай.
– Глубоко?
– Обычно роют на шесть футов, но я предпочитаю добрые десять.
Я вскидываю бровь, но не спорю и приступаю к работе.
Маму роется в матерчатой сумке, периодически хмыкая – не то чтобы недовольно, но близко к этому.
– Ты забыла костенец сколопендровый.
– Откуда мне было знать, что нужно взять? – спрашиваю я.
Маму не отвечает.
За рытьем могилы я теряю счет времени. Вогнать лопату в землю, поднять. Повторить. Мышцы горят. В последний раз я копала яму в глубоком детстве, когда мы ездили на пляж. Это не идет ни в какое сравнение. Воткнуть лезвие, вырезать пласт бархатистой черноты. Зубы ноют от скрипа металла о мелкие камни.
Я стою в могиле, когда Маму наконец говорит «стоп» и помогает выбраться. Для старой женщины у нее удивительно сильные руки с хорошо очерченными мышцами. «Надо было ей самой взяться за лопату, – думаю я. – У нее вышло бы быстрее».
– А теперь идем за лисой.
Бодро шагаем к перекрестку. В лесу совсем темно, и я подсвечиваю дорогу фонариком. Его луч окрашивает в пепельно-серый все, к чему ни прикоснется. Маму идет впереди. Свет ей то ли не нужен, то ли она не хочет его зажигать. Она прокладывает путь. Я следую за ней. Все вокруг застыло, словно на старой позабытой фотографии. Я чувствую, как внутри нарастает лихорадочный жар.
Снимаю пальто. Маму оглядывается на ходу и кивает, не говоря ни слова. Когда мы подходим к перекрестку, лиса по-прежнему там. Я наступаю на что-то мягкое. Это не листья. Почка? Маму наклоняется, чтобы осмотреть и обнюхать тело.
– Труп свежий, – бросает она.
– Насколько?
– Ему всего пара часов.
– Получается, мы могли спугнуть того, кто?.. – Я замолкаю, и вопрос повисает в воздухе.
Маму спокойно открывает медицинский саквояж, достает что-то похожее на бинокль и подносит к глазам. Смотрит вверх, вниз и по сторонам. Это выглядит забавно, но мне почему-то совсем не смешно.
– Тут что-то тяжелое, – бормочет она. – Что-то неправильное.
Я киваю. На лице выступают бисеринки пота. Мне хочется свернуться клубоком и уснуть. Или сбежать отсюда куда подальше.
– Раны выглядят очень странно, – говорю я. – И мех… обжигающе горячий.
– Оно тебя почуяло. Ты должна пробиться сквозь это. Чувствуешь тяжесть? Как оно отталкивает тебя?
Я снова киваю. Маму права. Что-то давит на меня, обволакивая причудливым послевкусием границы сознания. Что-то тяжелое, полное желчи. Подобное угрозе… или просьбе. Только просьбе того сорта, что высказывает школьный задира, пожелавший присвоить твои карманные деньги. Что-то, что требуется починить, исправить. В глубине живота просыпается и наливается силой тяга к собирательству.
– Я что-то чувствую.
– Это вопрос, – объясняет Маму. – И ответ тебе не понравится. Мне нужно три оранжевых листа – оранжевых, как лисий мех. А еще три красных, как свежая кровь. И ягоды остролиста.
– Что такое вопрос?
– Я неясно выразилась?! – гневно сверкает глазами Маму. – Принеси то, о чем я просила, чтобы я все тут привела в порядок.
– Хорошо.
Я не возражаю, хотя мышцы ноют от боли. Я действительно хочу собирать листья. Мои желания совпали с требованиями Маму, и это поистине удивительно и в то же время ужасно правильно. Я будто получила разрешение странно себя вести. Тревога утихла, на смену ей пришла спокойная сосредоточенность. Увеличиваю яркость фонарика в телефоне. Я справлюсь. Уже зима, но земля в лесу укрыта листьями. Я ползаю на четвереньках, полностью доверившись своим ощущениям. Найдя, как мне кажется, подходящий лист, подношу его к телефону и проверяю цвет. Пятнистые отбрасываю. Мне нужны листья целые, гладкие, яркие.
Собрав нужное количество, я бегу назад к перекрестку. Маму стоит, согнувшись над лисой, в руке у нее восковая свеча. Она сердито хмурится.
– Протирай лису листьями, пока я буду говорить, – командует она.
Я недоверчиво смотрю на Маму:
– Вы серьезно?
– Ты что думаешь, я сюда шутки шутить приехала?
Слегка поежившись, я делаю, что мне велено. Протираю листьями мех, нос, потеки крови и кости, пока Маму бормочет на незнакомом языке. Это не английский и не ирландский, но странная смесь обоих с вкраплениями немецкого. В теле мертвой лисы зарождается едва слышный гул. Почему-то этот звук меня не пугает.
Пройдя через булавки и иглы, умертвляющие плоть, он впитывается в листья. Меня вдруг пробирает озноб.