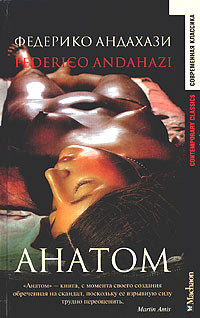* * *
Школа не пострадала от пожара, а жилище Исагера отстроили заново. Вскоре на Сколегаде выросли новые дома. В школе все стало по-прежнему. Исагер побывал в объятиях смерти, его дом сгорел, и за всем этим стояли мы, его ученики. Но он всегда возвращался. Партия проиграна. Все зря.
Мы вновь считали годы, загибая пальцы. Рано или поздно дети вырастают, и школа остается позади. Эго была наша единственная надежда.
После конфирмации Лоренс пошел в ученики к пекарю на Твергаде. Мы полагали, что там ему самое место, этому борову с немужественным телом, который по мере взросления становился все более женоподобным. У него и грудь имелась. Йосеф и Йохан взяли его однажды с собой на песчаную косу Эрикс-Хэле, расположенную в Маленьком море, или, попросту, на Хвост, и велели раздеться, чтобы посмотреть, как выглядит девчонка. Йосеф держал вырывающегося, трясущего жировыми отложениями Лоренса, а чувствительный Йохан, по любому поводу льющий жирные густые восковые слезы, проделал с ним нечто такое, из-за чего братья потом смотрели на нас с видом знатоков, посвященных в тайну, которой мы тоже можем причаститься, если хорошенько попросим. Но мы ничего не желали слышать. Ничего не хотели знать.
Итак, по ночам Лоренс месил тесто на Твергаде, но продержался он там всего пару месяцев. По соседству с жаркой печкой и мукой он задыхался. Говорил, что мука попадает в легкие. Но это все ерунда, он и так вечно задыхался, жирдяй такой, и виноват был сам, и мать его. Вдова, она с утра до вечера пичкала едой единственного сыночка, как гусенка на заклание.
Пекарь прогнал Лоренса. А что с него взять, если он вечно сипит и вжимает голову в плечи? И он пошел в море. Вернулся к зиме, с фингалом под глазом. «Ханс Йорген был прав, — сказал Лоренс. — Колотушки продолжаются и на борту корабля». Он смотрел на нас, и в его взгляде вновь читался вопрос: ну, теперь-то я стал одним из вас?
Мы, как всегда, отвернулись. Потом думали: коли парень так же смотрит на матросов «Анны-Марии-Элисабет», он вряд ли долго протянет.
Никто не уважает слабого, когда тот стоит на коленях.
И не было Ханса Йоргена, чтобы воскликнуть: «Ну, что я говорил?» — когда Лоренс рассказывал про побои на кораблях. Ханс Йорген пошел ко дну вместе с «Йоханной Каролиной» по прозвищу «Несравненная», однажды осенью бесследно исчезнувшей в Ботническом заливе.
Что за судьба ждала нас? Колотушки да смерть на дне морском, а мы все равно томились по морю. Чем для нас было детство? Прозябанием на суше, жизнью в тени плетки Исагера. Чем была для нас жизнь на море? Словами, значения которых мы еще не знали.
В нас пустило корни чувство, будто ничто не изменится, пока у нас под ногами находится земля. Исагер оставался прежним. Сыновья боялись и ненавидели его. Мы боялись и ненавидели его. Боялась ли и ненавидела ли его жена, никто не знал. Но она больше не била его. Отныне учительша жила в своем собственном мире. Мы украли у него собаку, дом, разум его жены, а он ничуть не изменился. Бил нас, как обычно, и ничему не учил. Мы сражались с ним, как обычно, и ничему не учились.
Мы больше не преследовали его, когда зимними вечерами он возвращался домой после двойного тодди у купца Матисена. Больше не кидали под Новый год в гостиную горшки с дерьмом. Но продолжали сыпать песок в чернильницы, забивать дымоход, прыгать из окон, прогуливать и красть его книги. Вскоре настал черед Нильса Петера повалить его на пол, а однажды придет очередь Альберта.
Исагер был бессмертен.
Закон
Мы познали плетку. Теперь нам предстояло познакомиться с морем.
Правду ли сказал Ханс Йорген, неужто колотушкам не будет конца?
Однажды Лаурис рассказал Альберту о наказании на военном фрегате «Неверсинк»: провинившегося привязали к мачте и пороли до крови, пока, по словам Лауриса, не выбили из него семь сортов дерьма. Мы не поняли, что это значит, но Лаурис сказал, что это американское выражение: «seven kinds of shit». И мы подумали: вот каков мир за пределами нашего острова. Вот она какая, великая Америка. Всего-то у них больше, даже дерьма. Мы и не замечали, чтобы из нас выходило разное дерьмо. Цвет менялся. Оно бывало жидким, бывало твердым, но дерьмо — оно ведь и есть дерьмо? Мы ели треску, макрель, сельдь, молочную кашу, свиную колбасу, суп из сычуга и капусту, но срали-то после этого одинаково. Вот оно, оказывается, как будет в большом мире. Мы будем есть другую пищу, чудовищ с морской глубины, какие не попадаются на крючок местному рыбаку, осьминогов, акул, резвых дельфинов, разнообразных рыбок с коралловых рифов, фрукты, которых наш крестьянин в глаза не видывал, бананы, апельсины, персики, манго и папайю, индийский карри, китайскую лапшу, летучих рыб в кокосовом молоке, мясо змеи и мозг обезьяны, и, когда нас будут бить, из нас выйдет семь сортов дерьма.
Мы попрощались с матерями. Всю нашу жизнь они находились рядом, но мы словно впервые их увидели. Они склонялись над котлами и кастрюлями, с лицами красными и опухшими от жара и пара. Все хозяйство было на них, пока отцы пропадали в море. Каждый вечер они опускались на лавку, со штопальной иглой в руке. Мы видели не их — их выносливость. Их усталость. И никогда ни о чем не спрашивали. Не хотели доставлять лишних хлопот.
Так мы выказывали свою любовь: молчанием.
У них всегда были красные глаза: утром, когда они будили нас, — из-за печного дыма; вечером, когда, сами еще одетые, укладывали нас, — от усталости.
Иногда глаза бывали красными от слез, пролитых о тех, кто уже не вернется.
Спросите, какого цвета глаза наших матерей?
— Они не карие. Не зеленые. Не голубые и не серые. Они красные.
Так мы ответим.
И вот они прощаются с нами, стоя на набережной. Между нами по-прежнему царит молчание. Они вглядываются нам в глаза.
«Возвращайся», — говорят их взгляды.
«Останься дома», — говорят их глаза.
Но мы не хотим назад. Мы хотим прочь отсюда. В другие края. В этот миг, прощаясь на набережной, мы вонзаем ножи в их сердца. Мы вонзаем ножи в их сердца, уходя прочь. Вот как мы связаны. Болью, которую причиняем друг другу.
Мы кое-чему научились дома. Умели сплесневать канаты и вязать узлы. Могли подняться на мачту и не боялись высоты. Знали, как устроен корабль, знали каждый его закоулок. Но все это — только на зимовке. Мы еще не знали, каким огромным бывает море и каким маленьким — суденышко.
Мы все начинали гарсонами на камбузе.
— Вот, — говорил шкипер, протягивая нам покрытую зеленым налетом медную кастрюлю.
Кастрюля и была камбузом. В те времена на кораблях не было камбузов. Мы сидели в носовом кубрике, перед глиняной печкой, а дымоход представлял собой четыре сбитых доски, торчащие наружу сквозь палубный настил. В дождь его заливало. В шторм, когда волны захлестывали палубу, на нас обрушивались потоки, заливая огонь, и, бывало, мы бродили по колено в воде. При малейшем ветре, когда корабль начинало качать, приходилось удерживать кастрюлю голыми руками, чтобы та не свалилась на пол. Мы натягивали на ладони рукава, чтобы защитить их от соприкосновения с раскаленными ручками кастрюли, и таращились в суп из саго красными от дыма глазами. Кого-то надо было пинать, и если на борту не было собаки, то пинали нас.