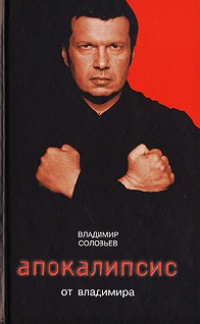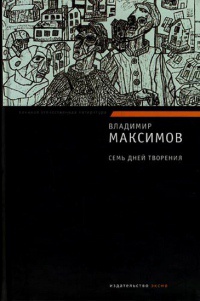— Папа, гриб, — говорила Катарина.
— Вот это гриб, так гриб! — радовался я. — Найти боровик в такую засуху — просто чудо. Молодец, мышка-мишка!
Из личного опыта я знал, что человек пьет, потому что в состоянии опьянения мир вокруг него сужается и кажется ему подконтрольным, а сам он вырастает в собственных глазах и мнится себе все более значимым, соизмеримым с необъятностью мира. Именно этот психологический механизм замещения, внедрения в пространство и время, в наши проблемы и желания, преодоление судьбоносных вещей их отсрочкой превращает пьяного в ребенка или злодея. Любые другие объяснения пьянства — наивные потуги психиатров докопаться до смысла, чтобы определить его как причину. «Пью с горя, от радости, со скуки, потому что она мне изменяет, потому что она меня бросила или потому что партия „Национальное движение за стабильность и подъем“ победила на выборах…» — все это лишь оправдание нашей жажды преувеличения, стремления изменить соотношение себя и мира, а быть может, себя и… смерти. Убежден, что нечто подобное, но гораздо сильнее подхлестнутое наркотиками, испытывают и наркоманы.
— Хочешь знать, чем я кололась? — вдруг коварно спросила Катарина. Мы брели некошеным лугом, я пытался не поддаваться очарованию переливавшегося в меня пейзажа. Над нами пролетел аист, ласточки чертили петли в небесах.
— Нет! — резко ответил я.
— А как давно я этим занимаюсь?
— Нет, — повторил я.
— А с кем и как я это делала? — она покраснела.
— Пора возвращаться, мы ведь еще не обедали, — сказал я, поворачиваясь спиной к овальной вершине Голям Купен.
Из личного опыта я также знаю, что у пьянства есть другая, отвратительная сторона медали. У меня — это кошмарное похмелье. На следующее утро после такой карамазовской ночи я просыпаюсь тряпка тряпкой, с депрессивным чувством вины (кажется, будто я погубил не одну невинную детскую душу) и тут же предаюсь самобичеванию. Каждая клеточка моего многострадального тела, вплоть до кончиков ногтей, болит невыносимо, отравленный организм взывает о помощи. Первые несколько часов ничто мне помочь не может — ни растворимые витамины, ни физкультура (на которую мне недостает силы воли). Единственный выход из этой убийственной и невыносимой безвыходности — опохмелиться. Но при беспрерывной «поправке здоровья» прежних доз тебе уже не хватает, они не могут обмануть мозг и ввести тебя в искомое состояние парения в бесконечности, состояние мнимой свободы. Количество выпитого приходится увеличивать, а это означает, что на следующий день похмелье будет еще более жестоким, самобичевание и беспричинная, но вселенская вина — еще более непосильными. Предполагаю, что именно в этот порочный круг, как в воронку, затягивает и наркоманов. В одной из наших бесед доктор Георгиев сказал мне, что у Катарины все еще относительная зависимость. Он выделил интонацией слово «относительная», покачав своей фиолетовой опухолью. Вот почему меня сейчас не тревожило наше молчание, ее сравнение обыденности этого луга с видениями и бесконечными пастбищами потусторонних грез. Я боялся химии, боялся того мгновения, когда клетки ее истощенного тела потребуют своего, привычных иллюзий, чтобы насытить собственный голод.
«Первая, самая невыносимая фаза абстинентного синдрома, — сказал мне тогда доктор Георгиев, — наступает почти сразу же, она пройдет здесь, в больнице, под нашим контролем. Потом при сильной наркотической зависимости у пациентов возникает тот беспросветный животный голод, который в быту называют „криком клеток“. Но у относительно наркозависимых пациентов, к которым, по счастью, принадлежит ваша дочь, опасность состоит в другом. Они часто впадают в ступор, все их существо фокусируется на стремлении обязательно, сразу же, любой ценой добраться до необходимой дозы. Получить желаемое — это их единственная стратегия, единственно возможное будущее. Мысль, что они могут остаться без дозы, демонизирует их сознание и мобилизует волю, они готовы на любую мерзость, даже на преступление… Эта навязчивая идея может вызвать и страховой невроз. Вы постоянно должны быть начеку, господин Сестримски, Катарина — на редкость умная девочка, а значит, опасно изобретательная». Именно поэтому я запасся отцовскими брючными ремнями…
Когда, держась за руки, мы вернулись домой, на дачу, нас ждал подлый сюрприз: на террасе сидели мама с Вероникой. Вцепившись друг в друга на неудобной скамейке, обессилевшие от тревоги, трансформировавшие свою любовь в отчаянье, они неестественно оживились, вскочили и затискали Катарину, словно присутствуя на чуде Господнем. И разрушили все, что мы создали в этот день.
— Детка моя, — вопила мама, — как ты прекрасно выглядишь! Как ты себя чувствуешь?
— Мы принесли грибы… — попытался я ее остановить.
— Значит, вы гуляли? Эти горы… и наша дача… дедушка ведь строил ее для тебя и для Милы… — я до смерти боялся, что мама заплачет, и она заплакала.
— А я собрала травяной сбор для чая, — невпопад ляпнула Катарина.
Вероника не заплакала. По привычке она пригвоздила меня взглядом, обвиняя в своей боли. Жена явно не спала этой ночью — ее выдавали темные круги под глазами. Прижав к себе дочь, Вероника чуть не задушила ее, словно в отчаянии пыталась накормить грудью. Я зашарил глазами в поисках непременной стрелки на черных колготках, и нашел — на внутренней стороне ее бедра. Губы жены мелко дрожали, тяжеленный арбуз, который она притащила из города, дал о себе знать пятнами пота под мышками, проступившими на шелковой блузке, туфли на высоких каблуках запылились. В ярком солнечном свете синева ее глаз поблекла, но они по-прежнему смотрели на мир с бесконечным удивлением, за которым она пряталась, как за ширмой — совсем как Катарина за своими линзами, размывающими выражение ее глаз и не дающими добраться до ее сути. Я спохватился, что наблюдаю за Вероникой совершенно отстраненно, как за незнакомой женщиной. Попытался вспомнить сумрак в роддоме, когда она, с располосованным животом, ползла по лестнице вверх, к кувезу Катарины. Я помнил об этом, даже мог себе это представить, но то живое и трепетное воспоминание исчезло. Я утратил сердцевину своего чувства, нищенские остатки нашей близости превратились в обычное воспоминание. Кажется, Вероника почувствовала охватившую меня панику и попыталась улыбнуться.
— А как твои дела? — с натужной заинтересованностью спросила она.
— Бросил пить, — отрапортовал я.
— Я имела в виду вас двоих…
— Ходим, взявшись за руки, — ответил я.
— Я сегодня снова разговаривала с доктором Георгиевым, — обратилась она ко мне, но слова предназначались Катарине. — Он меня заверил, что двух месяцев достаточно для…
— Бедный папа, — сказала Катарина.
— …для полного выздоровления, — вздохнула мама, вытаскивая из рукава носовой платок.
— Он очень опытный врач и абсолютно уверен… — завелась Вероника, — он гарантирует… готов поставить на кон свой авторитет…
— Ты прокладки мне привезла? — прервала ее Катарина.
— Слушай, что мать говорит, — вмешалась мама. — Если бы твой дедушка был жив…