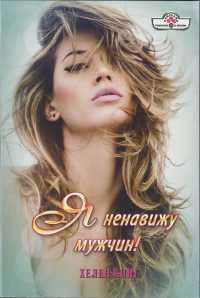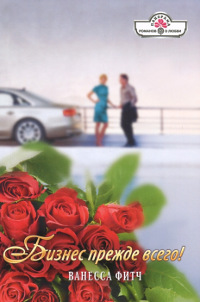— Сядь! — бросил тот сквозь зубы, отстраняя девушку рукой и неотрывно продолжая следить за соседним столиком.
— Это что, вместо «здравствуйте»? — поджав губы, вошла в вираж Антонина.
— Сядь, я сказал! — прошипел Шумилин, и его лицо перекосилось от злости. Скулы, словно сведенные судорогой, напряглись, а глаза, метавшие молнии, полоснули Тоську по лицу.
— Ты что, ошалел? — испуганно взвизгнула она. — Как это все понимать?
— И когда это случится? — девица с распухшим носом замерла, ожидая слов крашеной, но Шумилин не расслышал ответа.
— Я не намерена торчать в этой халупе с истуканом, который даже не повернул ко мне головы! — распалялась Антонина. — Ты зачем меня позвал, если пялишься на этих публичных девок? Ты что, не можешь отличить порядочной девушки от гулящей, или тебя прельщает перспектива постоять в очереди?
Ответив что-то своей подруге, крашеная девица с удивлением посмотрела в сторону скандалистки, а Федор, шумно выдохнув, сверкнул глазами.
— Ты что, онемел? В жизни ничего подобного не встречала! — воскликнула Антонина, сверля Шумилина глазами. Но в этот момент две подруги собрались уходить из пиццерии.
— Пошла вон отсюда, тетеря-ятеря! — тихо проговорил он, следя глазами за парочкой и поджидая момент, когда можно будет незаметно тронуться следом.
— Что ты сказал?! — не поверила своим ушам Тоська. Пытаясь заглянуть в лицо Федора, она сделала шаг вперед, загородив ему угол обзора окончательно.
— Навязалась на мою голову! — тихо проговорил тот, не отрывая взгляда от затемненного стекла. — Лучше бы я тебя сразу отослал на все четыре стороны, — прибавил он, неожиданно вставая из-за столика.
— Какая ты редкостная сволочь! — возмущенно сузила глаза девушка. — Между прочим, это ты меня пригласил, я к тебе не набивалась! — гордо вскинув голову, сказала она.
— Да? — оторвавшись на секунду от созерцания удалявшихся подруг, он посмотрел на кипящую от негодования Антонину и спокойно произнес: — Это я не подумавши.
Без дальнейших объяснений он схватил лежавшие на столе перчатки и быстро вышел из пиццерии. Проводив сладкую парочку почти до самой машины, Шумилин узнал, что черный «Ягуар» ручной сборки, за рулем которого крашеная стерва выглядела некоронованной королевой помойки, имеет московские номера и упакован электроникой под самую завязку. Рывком стронувшись с места, «Ягуар» жалобно пискнул тормозами, а Шумилин, опуская записную книжечку с номерами заморского чуда в карман куртки, довольно произнес:
— Мадам, мы с вами не прощаемся!
* * *
Скривившись, Кондратьев сделал приличный глоток из бутылки с энергетическим напитком и с чувством выдохнул. Нельзя сказать, что подозрительная жидкость цвета разведенного в воде медного купороса ему нравилась, просто употребление этой отравы было в моде, и, чтобы не ударить в грязь лицом, Глеб пытался соответствовать. Дернувшись всем телом в глубокой отрыжке, он перехватил пластиковую бутылку в другую руку и глотнул еще раз. Мелкие пузырики, побежавшие по горлу, вонзились сотней булавочных уколов, постепенно переходящих из гортани в нос, зарябили электрическими искорками в глазах и, наконец, покинули тело.
— Мощная вещичка, — с трудом переводя дыхание, произнес Глеб. — Никто не желает? — Приподняв бутылку правой рукой, он обвел сидящих в комнате ребят вопросительным взглядом. — Может ты, Виталь?
— А почему бы и нет? — расплылся в улыбке тот.
Взяв из рук приятеля бутылку, Халтурин начал пить жадными глотками, гулко отдающимися где-то в глубине его необъятного организма. Судя по звуку, жидкость, минуя ротовую полость, поступала напрямую в желудок, падая в его резервуары с приличной высоты и вызывая содрогание во всем теле.
Халтурин был соседом Глеба по лестничной площадке, таким же огромным и широким, как и сам Кондратьев, только четырьмя годами старше. Два месяца назад ему исполнилось восемнадцать, но по его интеллекту сказать этого было нельзя. Толстые, как у хомяка, щеки прикрывали узкие полосочки заплывших глаз, казавшихся на его большом и круглом, как блин, лице булавочными точечками, и оттого, что за гармошкой пухлых щек цвет радужки разобрать было почти невозможно, взгляд мальчика казался подозрительным и злым.
Но это было не так, Халтурин был от природы на редкость добрым и мягким, не способным не только обидеть, но даже сделать замечание или просто косо посмотреть. Восемь лет назад, став соседом Кондратьева, Виталий попал под его влияние и сделался в руках Глеба послушным орудием для исполнения прихотей и задумок сына высокого начальника. Не желая идти на конфликт с товарищем, Виталик старался не задумываться над мотивами и следствиями поступков Кондратьева, слепо веря в высокое покровительство отца Глеба и весело проводя время за чужой счет.
Когда Глеба одолевала хандра, он звал в гости соседа и, придумав очередную сногсшибательную забаву, с интересом наблюдал, как это пушечное мясо ринется на амбразуру его светлой идеи. Если затея оканчивалась плохо, Глеб предпочитал устраниться, охраняя интересы семейной фамилии, но Виталий не держал на друга зла, зная, что Кондратьев обязательно вытащит его из любой передряги.
Если дела обстояли совсем плохо и разгрести накопившиеся неприятности самостоятельно Глеб был не в силах, наступала очередь Кондратьева-старшего, и тогда в игру вступала тяжелая артиллерия. Восстановив статус-кво, Эдуард Викторович снимал стружку с отпрыска, после чего, считая воспитательный процесс оконченным, снова погружался в свои дела. Затихнув на пару недель, Глеб выжидал время, когда волнения совсем улягутся, придумывал новую потрясающую забаву и приглашал Виталия к себе в гости.
Сегодня был как раз такой день, когда уровень адреналина в организме Глеба был почти на нуле и нуждался в срочной подпитке. История с увольнением литераторши за давностью была если не забыта, то, по крайней мере, отошла на задний план, и две недели тишины, обеспеченные Глебом семье, говорили о том, что время для новых затей наступило. Развалившись в удобном кресле, Глеб исподлобья поглядывал на ребят, зашедших к нему после школы, и оценивающе прикидывал, кого из них можно пригласить на дело, продуманное им до мелочей и назначенное на сегодняшнюю ночь.
Новинский, маленький худенький мальчик со светлой челочкой и обманчиво-наивными глазками, мог бы подойти, но вся беда была в том, что Санька был несусветным треплом, болтавшим почти круглосуточно, даже во сне, и не способным удержать за зубами ни одной хоть сколько-нибудь важной информации. Хлопая коротенькими ресничками, он подобострастно улыбался, всецело соглашаясь с несомненным лидерством Глеба и не пытаясь оспаривать раз и навсегда заведенный порядок, говорил, говорил, говорил. Казалось, что в говорении заключена вся его жизнь, и если он перестанет трепать языком, то развалится на кусочки, собрать которые не удастся никому. Вот и сейчас, сидя с ногами в пухлых подушках дорогого кресла, он трещал без умолку, вываливая на слушателей все, что накопилось у него за день.