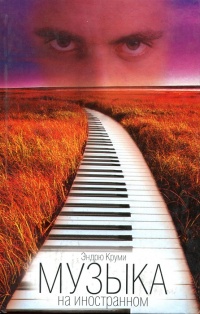Ознакомительная версия. Доступно 14 страниц из 70
Здесь светозвуковой сгусток, принимающий по временам очертания Евстигнеевой фигуры, судорожно дергал правой рукой, выхватывал из-под обшлага кафтана, комкал и бросал в мерзлый бурьян, укрывший рыжей собачьей шерстью берега Серебрянки, два желто-ветхих, неодинаковой длины бумажных свитка.
В первом свитке значилось:
...
«В императорскую Академию художеств. Из Санкт-петербургской полицейской Експедиции.
Сего апреля 17-го числа 2-й адмиралтейской части инспектор при рапорте в Експедицию представил пашпорт, оставшийся после умершего капельмейстера Евстигнея Фомина, данный из оной академии. Того ради данной Експедиции определено оставшийся после его Фомина пашпорт препроводить в оную академию, которой при сем и препровождается.
Апреля 18 дня 1800-го года».
Во втором:
...
«Присланной из Санкт-петербургской полицейской Експедиции оставшийся после умершего капельмейстера Евсигнея Фомина, данной от Академии аттестат, изломав на нем приложенную печать и замарав подпись, хранить в архиве, а как сей Фомин должен состоит Академии 33 р. 68 к., то за смертию его сию сумму из долговых списков исключить».
«33 рубля!.. Замарав подпись… Изломав печать… 33–68!.. Должен, должен остался! К Богу и ангелам Его взываю! Не может чтящий себя капельмейстер должником на земле оставаться. Музыку мою – за долг зачтите. Музыку продайте – долг верните!»
Воля вздрогнула и тут же поманила назад – бочком, меж сном и явью – скользнувшее виденье.
Но виденье не вернулось. Не ощущалось больше Евстигнеева сгустка рядом с каменной дачей!
– Ну тогда – «Театр переменяется»! – сказала госпожа Рокотова словами, значившимися в старинной партитуре, принадлежавшей когда-то славному Шереметьевскому театру.
В этой партитуре после трагического окончания Евстигнеевой музыки и выведенного авторской рукой: «Фине» – был вписан каким-то олухом царя небесного искажающий смысл оперы и смысл композиторской жизни – «благополучный» конец. Конец, разодравший в клочья и «опустивший», к хренам собачьим, и греческую трагедию, и ветхозаветные, чующиеся за нею мотивы.
«Приперся, стало быть, Амурчик, – все круче серчала Воля на того, кто влепил в партитуру нелепый тексток, – прилетел на крылышках этот похабный ласкатель жирных баб, и что-то такое глупо-возвышенное вякнул. Мол, “Зевс награждает Орфея за верность!” Мол, “возвращает ему живую Эвридику”».
Это какой же поскребыш вписал после Евстигнея такую чушь, такой диалог дурацкий:
«Театр переменяется:
Орфей. – О, Эвридика!
Эвридика. – Ах, Орфей!»
– В жизни-то Орфеевой никакой перемены не произошло. Не ожила Эвридика. Да и на театре – тоже без перемен… Ну да ладно! Сами театр этот переменим! Переменим – да не так приторно! – вскрикнула тихо Воля и побежала к дачному окну: высматривать то ли Евстигнея, то ли «невидимого мужика», Андрея.
Охота на голос
22 ч. 56 мин.
Она дошла почти до самого конца зала. Тяжесть взрывчатки теперь уже гнула к мраморному полу, вышатывала вбок. Блеск статуй тревожил. Спину, однако, она держала ровно, улыбалась.
Надо было свернуть вправо, пройти на перрон, сесть, отдышаться. Ее не столько утомлял смертельный груз, навешенный вокруг живота, съезжавший и ниже, сколько томили ненасытные, не утихающие воспоминания.
Попирая законы времени (в минуту – день, два, а то и три!), они стремительно, словно в аэродинамической трубе, несли ее жизнь назад, делали существование неодномерным, опознающим себя сразу в двух, даже в трех планах… Утро после ночи с Андреем началось тяжко, скверно.
В каменной, громадной, местами шитой дубом и «птичьим глазом» даче – искали «пропажу». Выла побитая Никта, визжал квелый Антипа Демьяныч, оправдывалась охрана.
К Воле пока не заходили. Однако она сразу догадалась, в чем дело: «Свалил Андрюха, свалил!»
Через час примерно заявился непохожий на себя самого Демыч. Он подозрительно поводил острым носом – Воля только сейчас заметила торчащую из кончика носа черную волосину, – внюхался в воздух, понюхал и саму Волю, помигал внимательными собачьими глазками:
– Так, мигом встала, оделась – и вперед, на выход!
– Куда это? Я ж еще курс молодого бойца не прошла, – с подковыркой, а на самом деле испугавшись (от вчерашней «милой», от вежливого «выканья» не осталось и следа), застонала Воля.
– «Бойца», «прошла». Еще слово скажешь – язык спицей проткну. Ну, живо на улицу!
Видя Волину нерешительность Демыч вынул из-за спины и показал длинную сверкающую спицу.
«Сволочь, и правда проткнет ведь».
Косвенным боковым зрением Воля видела, с какой ненавистью и жадностью глядел Демыч на отразившееся в зеркале, скользнувшее мимо него бело-смуглое женское тело. Кроме ненависти и жадности что-то тупо-таимое читалось в глазах хилого террориста с голым темечком.
Это «что-то» Воле больше всего и не нравилось. «Чего это он? Вчера ручки целовал, глазками всю как есть поедал. А сегодня…»
Вчетвером – Воля, Демыч, двое в очках и шлемах – вышли на крыльцо. Местность была незнакомая. Никаким Пустым Рождеством здесь и не пахло. Одинокая каменная дача в два с половиной этажа (один наполовину под землей), несколько домов у холма, дальнее поле, елово-лиственный лес, сверкнувшая сквозь лес вода. И все. И ни души вокруг.
Прошли к аэросаням. Перед тем как на них усесться, Демыч вынул спицу, глубоко уколол Волю в бедро.
– За что? – охнула Воля.
– Не за что, а вперед, авансом. Теперь слушай. Цель поездки: едем себе тихо по полю, потом по лесу. Едем – останавливаемся, останавливаемся – едем. Во время остановок – и скорей всего в лесу – ты, корова лысая, ласково так поешь: – «Андрей, Андрейка! Где ты?…» Может он, стерво, себя проявит.
«Ну нет. Андрея вам на дурняк не взять!» От радости Воля даже перестала трогать уколотое бедро.
– Ясно я излагаю? Или уколемся еще разок? Ну то-то. Остальное – наше дело. Едем порознь, и не вздумай чего-нибудь лишнего вякнуть. Все приготовили? – спросил Демыч у шлемофонистых.
– А то. – Один из них передернул затвор, подбросил и поймал правой рукой карабин.
«Охотничий, “Сайга”», – вспомнила Воля название карабина. У них на фирме было двое охотников, Воля от нечего делать даже ездила с ними разок в «Торговый зал оружия», куда-то за Мытищи. Там эту самую «Сайгу» и видела.
На карабины были наверчены странные, короткие и толстые глушители. «Самодельные, что ли?»
– Ие-ех! – крикнул вместо команды Демыч.
Охота на голос началась.
Сильного мороза не было, однако ветер рвал щеки, хоть на Волю и напялили оленью шапку с ушами. Демыч, перед тем как сесть в аэросани, туго завязал ей тесемки под горлом, «чтобы лишнего не слушала».
Ознакомительная версия. Доступно 14 страниц из 70