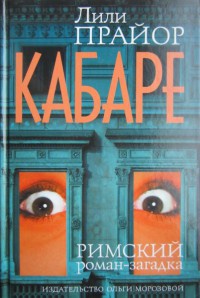Как прокралась в дом беда, Лиля проглядела. На тракторе Федя привозил, бывало, кому уголь, кому сено, кому дрова (да мало ли чего!), и все благодарили – кто «Столичной», кто «Московской, кто «Перцовкой». И начал Федя прикладываться к бутылке. Боясь обидеть и отдалить от себя трудолюбивого сына, Лиля молчала, плакала и надеялась, что армия его исправит, но после армии началось то же, что было до. А тут ещё «сухой закон» 1985 г… В магазинах исчезла водка и начали пить что ни попадя: одеколоны, клеи, моющие средства. В гостях выпил Федя денатурат, в гостях и помер – больницы в селе не было.
Лиля поседела за одну ночь. Из природной веселушки превратилась в немую немку— а на кого жаловаться, коль судьба ей такая уготована свыше? Чужим до кома в её душе не было дела – с комом и жила.
* * *
Наступали девяностые – немцы целыми деревнями и семьями уезжали в Германию. Тёти по матери и отцу уговаривали подать заявление на выезд, но Лилю бросало в дрожь от одного слова «Германия». В деревне её давно признали своей – забыли, что она немка. Если честно, она тоже забыла – слабо помнит мамины песни и бытовой немецкий диалект. От былых страхов осталось разве что выражение «лексические ошибки». В селе оно стало привычным, и употребляли его, когда не хотели говорить «наступить в говно». Лиля прижилась, все её знают – от добра добро не ищут. Кто ей в той Германии дом построит? А здесь у неё вон какие хоромы: две комнаты, кухня, холодная просторная веранда, летняя кухня – наследие саманного домика. Рядом – огород в двадцать соток. Из года в год мало-помалу копила-копила и накопила столько, что и внукам, и правнукам хватит: шкафы забиты носками, постельным бельём, платками, одеялами, подушками, перинами, коврами – всего не перечислить.
И всё бросать? Не-ет, «лексическим ошибкам» не бывать: помнит, с каким трудом всё доставалось!.. Мать до самой смерти вспоминала свою Мариенталь, её Breitegasse (широкую улицу) и всё, что пришлось оставить: большое зеркало на стене, шкафы, столы, стулья, погреб со всякой всячиной. Всего этого у неё сегодня навалом, а в погребе и картошка, и солонина, сало-шпик и сало топлёное. К тому же и кладбище рядышком – с могилами матери, сына и мужа. Все трудности позади. Серёжа и Вова поженились, внуков нарожали – она всем помогает. Кому она в той Германии нужна? Кто её там ждёт?! Здесь она своя, а там – ни Богу свечка, ни черту кочерга.
Настали, конечно, тяжёлые перестроечные времена, но от голода, как было в войну, слава Богу, в селе никто ещё не помер. А будет совсем невмоготу— содержимое шкафов начнёт менять на продукты: вместе с детьми и внуками сто лет продержится. Так при детях и внуках рассуждала Лиля, вкладывая свои убеждения в их души. Да, 32 года без мужа, но жизнью она довольна: замужняя внучка живёт рядом; бабушку навещает каждый день, вместе телевизор смотрят, только что её проводила. Перед тем, как лечь спать, вышла в кухню закрыть вьюшку: тепло в январские морозы надо беречь.
* * *
Ночью Лиля проснулась – сходить по маленькой нужде на ведро, которое с вечера заносила в холодную веранду. Засунула босые ноги в валенки, полусонно подумала, что мороз, видимо, пошёл на убыль: в спальне было непривычно жарко. В ночной рубашке открыла массивную дверь на веранду, и – о Боже! – из кухонной двери прорывались языки пламени. Заглянула – кухня полыхала костром. Захлопнула дверь, сдёрнула с гвоздя в зале старое пальто, натянула его на ходу и бросилась к колодцу, наматывая на голову платок. Принесла два ведра, но вырвавшийся на веранду огонь набросился на неё, однако два ведра всё же выплеснула. Пламя на минуту задумалось и, словно придя в себя, с силой рвануло к противоположной, смежной со спальней стене. Лиля захлопнула кухонную дверь и снова кинулась к колодцу.
В спешке спускаясь с крыльца, упала, ощутив на обгоревшем лице приятный холод снега. Пока тащила из колодца воду, огонь снова вырвался на веранду, и она, хотя и бывало всяко, впервые почувствовала себя беспомощной: одной пожар ей не потушить. Глядя на набиравший силу огонь, вспомнила о деньгах в шкафу спальни, а их ни много ни мало, тридцать тысяч – вся сэкономленная за последние годы пенсия. Вылила на себя воду и бросилась в огонь, прикрывая лицо мокрым воротником. Нащупала в шкафу целлофановый пакет, прикрыла его полой мокрого пальто, и сквозь огонь – к выходу.
Глядя со двора, как перебрасывался огонь сначала в зал, затем в спальню, как разгоралась крыша, как теряла всё, что с трудом наживала, почувствовала себя бездомной девочкой, какой в 1941-м привезли её сюда с родителями. Сбегались люди, о чём-то спрашивали, но она никого не слышала и ничего не понимала – к лицу и голове больно было притронуться.
В районной больнице Лиля очнулась через месяц. Обгоревшее лицо и уши подлечили, но куда её выписывать, не знали – больная молчала. В конце концов, её взяла к себе внучка, что днём уходила с мужем на работу. Лиля оставалась одна и от нечего делать отправлялась на пепелище, что находилось рядом, – вытаскивала обгоревшие кастрюли, сковородки, вёдра, и к ней вернулась память. Соседи рассказывали, как, мол, однажды на пепелище она прогневала Бога. Подняла к небу руки, крикнула, что было силы: «За что, Господи, ты всё отнял у меня?.. За что-о?..» и – началась такая гроза, припомнить какую не могли старожилы. Ещё, бывало, она на пепелище в сердцах передразнивала председателя:
– Ве-ечный дом! Ни крысы не возьмут, ни гниение»!.. Взя-ял! Дё-ёготь взял! Паразит, брёвен не дал…
После пожара, что случился из-за замыкания в проводке, жизнь Лили превратилась в гостевую – у одного сына, у другого либо внучки. Эту жизнь она не любила, полноценно жила лишь в воспоминаниях: расхаживала по дому из пропитанных дёгтем шпал – единственному богатству, что питало жизненный дух и давало ощущение свободы, когда она была царицей и владычицей собственных желаний. Садилась во дворе на прохладную, плюшевую зелень и подолгу любовалась слепыми котятами, что тыкались к соскам своей лениво развалившейся на солнцепёке матери; тянула из колодца ведро и выплёскивала по корытам и ямкам воду, в которой плескались утята; на горячем летнем солнце прожаривала всё от моли; перекладывала содержимое шкафов; пропалывала огород; топила холодными зимами печь и готовила в кухне еду.
* * *
Однажды к дому внучки летним вечером на завалинку к бабе Лили присела соседка. Притронулась – мертва.
На кладбище, где лежит она сегодня по соседству с матерью, сыном и мужем, ей приносят обычно цветы.
– Тут наша баба Лиля лежит, – крестятся те, что помоложе.
– Не-емочка ты наша ро-одненька! Ны було у тэбэ ныяких «лексiчних помилок», – крестятся «товарки» её возраста.
Старик Цыбуля, одноклассник, не крестится – кладёт один пучок полевых ромашек на могилу жены, второй – на могилу Лили и непременно вздохнёт:
– Эх, Лиля-Лиля, пiйшла б за мЭнэ замiж – усэ б по-другому выйшло.
Зарницы деда Миши
С его уходом яркими зарницами унеслись в бесконечность бабушка, дедушка, наводнение и бычок…
* * *
Лёгкое, нежное прикосновение мешало спать. Миша отмахнулся, увернулся, но кто-то надоедливой мухой снова коснулся волос. Чтобы отделаться от этих прикосновений, он натянул на голову лохмотья одеяла.