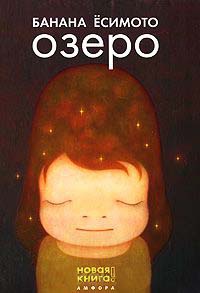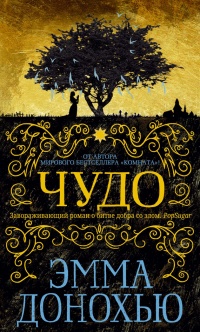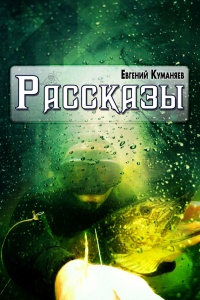Я с матаней пел на бане, Журавли летели, Мне матаня подморгнула, Башмаки слетели.
Я подумал: «Сейчас моя бабушка Настасья, царствие небесное ей, сухо плюнула бы в ёрника: де и как тебя, охальника, земля носит?! и как ты ртом соромным хлеб ешь?!»
* * *
Освоившись в палате, он распахнул окно прямо в сырые после дождя, пахнущие черёмухой, синеватые сумерки, и, усевшись на подоконник, запалив сигарету, хитровато и прищуристо оглядел нас, тоскливых, настороженных, ни на минуту не забывающих о напасти – о клеще окаянном.
– Так вы что, мужики, все укушенные? – с радостным дивом спросил он.
– Нет, на курорт приехали, в Сочи на три ночи, – напомнил шашлычник и, плеснув коньяку в тонкий стакан, завинтив пробку, спрятал бутылку в тумбочку.
– Но ничо, ничо, мужики, – даже не глядя на шашлычника, стал успокаивать нас Карнак. – Бог не выдаст, клещ не съест. Как моя мама говорила, царство ей небесное: на всё воля Божия, кому сгореть, тому не утонуть… От тоже напасть, а! Такая, паря, махонькая, а до чего зловредная. Меня от, врать не буду, и медведь драл, и геолог с ружьём гонял, и волк рвал, и сохатый[30] бодал – и ничо, жив-здоров Иван Петров.
– И медведь драл, – улыбнулся шашлычник, зажёвывая выпивку сыром.
– Я, паря, врать не люблю. Но вот как-то раз, помню… Ладно, потом доскажу… Мужики! – Он по-бригадирски оглядел нас. – Как тут у вас насчёт картошки дров поджарить? Короче, закусь есть? У меня тут такая настоечка – м-м-м!.. С ног сшибат и от мужской немочи помогат. – Он выудил из сетки свою мятую фляжку, зазывно потряс ею, и в ней глухо пробулькало. – Пантокрин чистый, на оленьих рогах настоянный, – чтобы понятней было нам, тёмным, растпорщил пальцы над головой. – Но знахари говорят: дескать, ежели с оленьими рогами туго, можно и на своих настоять. – Карнак подмигнул нам, покосившись на шашлычника, который, посасывая лимон, смакуя, прихлёбывал коньяк. – Ну, что, есть чем занюхать?..
Я и студент-журналист, которого Карнак пробозвал Доцентом, нашарили в тумбочках мало-мальскую закуску и потом до глухой ночи слушали охотничьи побаски, какие наш Карнак выуживал одну за другой, словно фартовый рыбак хариусов из речного улова[31]. Заливал, конечно, без зазрения совести, да ещё и таким кондовым говором, – короче, артист по жизни… Шашлычник равнодушно послушал да и завесил уши наушниками, включив крохотный магнитофончик, под музыку которого и задремал. И вдруг начал так храпеть, что вроде аж стёкла задребезжали.
– На пожарника сдаёт, – покосился на него Карнак и поцокал языком – храп захлебнулся, стих.
– А тяжело, наверно, одному в тайге? – спросил Доцент, не сводя с Карнака восторженно округлённых глаз и даже кое-что исподтихаря чиркая в свой заветный блокнотик.
Усмотрев такое дело, Карнак велел не прятаться, а писать открыто, со слов.
– Можешь печатать, но, чур, гроши пополам… Эх, ты бы мне на воле бражёнки выставил, у-у-у, я бы тебе такого набухтел… С меня же роман можно писать. Да… Я бы и сам тогды-сегды чего накалякал, да буквы не все помню. Кончил три класса да два коридора…
– Тоскливо, наверно, одному в тайге? – пытал Доцент. – Вы же по многу месяцев охотитесь.
– Да… – притворно вздохнул Карнак. – Оно, конечно, скушновато… без бабы-то… Другой раз, паря, так прижмёт, хоть волком вой… Да и посудачить не с кем. Вот у меня собачёшка водилась, Туманом звать, так я два месяца с ей калякал в зимовье. Однажды спрашиваю: «Може, хватит нам, Туманушко, по тайге бегать, соболя промышлять?..» И вдруг… – Тут Карнак округлил глаза, нагоняя страху. – И вдруг пёс мне и отвечат: «Однако, хватит, Ефимушко…» Ну-у, тут уж я смикитил: раз собака по-человечьи заговорила – всё-о, надо бросать охоту, на жилуху[32] подаваться. Крыша едет вместе с рогами… Тут уж я, паря, ноги в горсть и дёру.
– А как у вас на медведей охотятся? – спросил Доцент. – Говорят, раньше сибирские мужики на медведя с рогатиной ходили. Без ружья… Я вот много всяких басен слышал, а серьёзно?
– С рогатиной! – Карнак высокомерно засмеялся. – С рогатиной… А ежели серьёзно, то я мишек голыми руками брал. На музыку. Музыкой, паря, можно кого угодно оморочить, даже медведя… Помню, шишковал по осени, орех кедровый промышлял; и, грешным делом, прихватил в кедрач патефон, пластинками затарился ладно, – люблю, паря, добрую музыку послушать. И вот шишек наколотил, стаскал к табору, начал обрабатывать, отвеивать и калить на костре. Ну, и пластинку завёл – Фёдора Шаляпина: «Эй, дубинушка, ухнем…» И вот шишки шулушу под Шаляпина, увлёкся чо-то, и вдруг огляделся… мамочки родны!.. – Неподалёку четыре медведя… на пеньках сидят, Шаляпина слушают. Сперва-то я страсть как испужался – ружьё в зимовье, а бог знает, чего у этих медведей на уме. Потом, паря, гляжу, смирно так сидят, покачиваются под музыку, слёзы вытирают, видно, пробират… И невздолго после этого подваливат ко мне мужик из зоопарка: дескать, медведя бы нам молоденького, ребятишкам казать. «И деньги, паря, на бочку – три тыщшы… Счат-то я бы послал его подальше, где Макар телят не пас, а тогда молоденький ишо был, – в поле ветер, сзади дым, да как раз гроши позарез нужны были, – избу рубил… «Ну чо, – говорю, – по рукам. Будет вам Михайло… В посёлок приведу, а вы уж его принимайте». Зашёл, паря, в кедрач, вот так же патефон завёл. Гляжу, один любитель привалил, присел поодаль. Тут я патефон беру, и – по тропе. И он за мной. Идём. Как пружина в патефоне ослабнет, я опять заведу – музыка наяриват. Медведь плетётся следом, подпеват маленько… А перед посёлком на поляне завёл я Моцарта, медведь прилёг и задремал. Тут его в клетку и заволокли… Жалко, конечно.