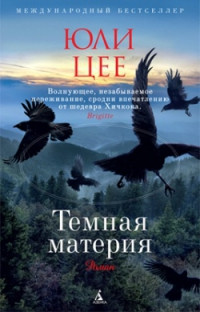Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 60
Эхо голосов дробилось о стены, они продолжали говорить, спорить о чем-то, а Елисей, не отрывая глаз от окна, прислушивался к этому невнятному гулу, который то затихал и становился едва заметным, то вдруг снова усиливался. Звуки, возникавшие вдали, были бесформенны и немы, но они имели свойство отдаляться и приближаться, эти блеклые, вялые ноты проникали сквозь стены и постепенно одолевали всё пространство дома, почти вытеснив из него шум дождя. Временами этот гул даже вызревал в человеческую речь, но на каком-то незнакомом, чужом языке – шуме, пробивавшемся сквозь плотную материю сна. Потом он как будто бы начал узнавать некоторые слова, и в этот момент почувствовал встречу с давно забытым ощущением и ясно уловил чувство скуки. Конечно, он не догадывался, что разговор отличался от их обычной пустой болтовни, что речь шла о нем, что священник продолжал что-то доказывать гостье, а она, несмотря на всю его нервную жестикуляцию, ни в какую не хотела соглашаться. Но Елисей терпеливо ждал слова, которое станет последним, отмирающего, утрачивающего свою власть слова, которое, наконец, будет вновь свергнуто шелестом дождя.
– Опять за печкой куешь! Ну, ничего, доберусь я до тебя, еще посмотрим, кто кого из дому выживет – злобно процедил священник сквозь зубы, обращаясь, по-видимому, к сверчку. – А смешной же ты всё-таки человек, Лукьян! И яичницу посреди дня готовишь! – хохотнула старуха, обмакнув хлеб в остатки растекшегося по тарелке и уже слегка затвердевшего желтка глазуньи. – Вот сморю я на него, и всё ясно. Поняла я секрет молчания бродяжки твоего. – Священник строго и удивленно взглянул на Марфицу, а она, оскалив подгнившие желтые зубы, продолжала: – Про немых слышал когда-нибудь? Мамка в детстве не сказывала, а? Немой твой Елисей – безъязыкий, понимаешь, а ты от него ответа добиться хочешь. Вот и весь секрет. Он, может, и рад бы Лазаря заскулить, да язык к нёбу прирос. Горе такому в чужой земельке. Ладно, засиделась я, пойду уж, развеселил на старости лет.
Прекратив свое гнусное хихиканье, старуха повязала платок и вышла, а Лукьян, даже не попрощавшись с нею, мрачно посмотрел на уставившегося в окно Елисея. Нет, он не мог поверить в его немоту. Старая дура! Будто он сам об этом не задумывался! Тут явно что-то другое. Немые знаками общаются, пишут записки, а этот – хуже зверя, никак не реагирует. Зачем он ему сдался? Нет уж, никогда он Марфице ничего больше не станет рассказывать. Да она и не поймет ничего, только переврет и разболтает всей округе. А потом – по цепочке: один лжет, другой поддакивает – это у них отработано. Вот про тайну-то он зря ей ляпнул, за язык что ли тянули. Да еще так непутево и путано изложил всё. Почему, когда в голове – складно, значит, на языке обязательно искривится? Решено, нужно в воскресенье в церкви во всеуслышание заявить, что приютил нищего с тем, чтобы не дать ему пропасть, чтобы воскресить в нем человека. По крайней мере, ни у кого не возникнет впечатления, что он скрывает Елисея, да и кривотолков, может, меньше будет. Прислушиваясь к шороху тараканов за плинтусами, священник опять погрузился в тесноту своих мыслей, пытаясь понять и сформулировать истинные причины своего нелепого поступка. Но когда он начинал задумываться о возможных основаниях, то осознавал, что не находит ни одного ясного объяснения.
Самой тупой казалась отговорка про братскую любовь. В нее он давно уже не верил. Да, пожалуй, он находил что-то возвышенное и даже героическое в том, что решился взять нищего на содержание.
Казалось даже, что это немного очищает душу. Но, конечно, вовсе не ради христианской добродетели позвал он его к себе в дом. Протянуть руку тому, кого наверняка всегда обходили стороной, словно больного чумой пса, ему хотелось наперекор. Хотелось назло всем односельчанам совершить нечто такое, на что ни один из них не решился бы. Да и на что им было решаться? В их истощенных телах уже не оставалось сил ни для чего, кроме ожидания смерти. Извечная нужда давно смирила их волю, и свое существование они терпели так, как терпит каторгу осужденный на пожизненное заключение. Их глаза затмились бессмысленностью, а лица посерели от злобного отчаяния, как вылинявшая до древесины, размытая ливнями краска на фронтонах их жилищ, о прежнем цвете которых остались только слабые, неуверенные воспоминания. Но они всё продолжали плодиться, росли, как грибы, обустраивали свою убогую, негодную жизнь. Они были так привязаны к этой дворовой грязи, что даже их простыни наверняка провоняли гнилым духом земли. Они – народ, потерявший рассудок, и в них нет смысла. Они напоминали ему трупы, издевательски подвешенные в воздухе прямо над травой, и, когда дул ветер, издалека можно было принять покачивание их ног за вялую походку. Стараться только ради того, чтобы лишний раз насолить этим пустоцветам, он не стал бы.
Зачем же тогда? Родные-близкие. Тоже отговорка. Да, несправедливая, пришибленная жизнь сложилась так, что ему не хватало ребенка, этого подаренного каждому человеку небольшого объекта власти, над которым можно было бы господствовать всецело и безгранично, которого испокон веков считалось допустимым ругать и бить, который был настолько беспомощен, что мог лишь заплакать в ответ, и всё равно пришел бы просить прощения. Не было и жены, чтобы ежедневно доказывать ей собственное существование. Единственный его несостоявшийся выбор – утопленница, которая отвергла его много лет назад и, словно в насмешку, предпочла ненавистного мастеровитого нелюдима. Можно было найти другую – из ходячих коромысел с бледными, желто-серыми лицами, но на это он не решался. Да и представься ему такой случай, неизвестно какой мукой закончилось бы это для него. Это даже не скрасило бы лживости исповедей, которые просто обрели бы еще один подвид: семейный и ежечасный. Они быстро превратились бы в двух озлобленных друг на друга колодников, закованных в одни кандалы и потому неразлучных. Ему становилось невыносимо от одной мысли о необходимости соприкосновения. Сложно представить пытку страшнее. Ведь это «близкое» существо всё равно осталось бы их разновидностью, вариантом кого-то другого, не имеющего к нему самому отношения, – кем-то, кого бы он ненавидел точно так же, как и остальных.
О, как же он презирал их! Их, чьи мозги были такими же истертыми и поношенными, как подошвы старых сапог. Что вообще они знали, что видели, окромя бутылки с водкой?! Но эти жадные крысы умудрялись сохранять извечное недовольство жизнью! Эти норовящие удушить друг друга человеческие ошметки, как ни в чем не бывало, рассуждали о справедливости! В нем не было ни крупицы доброты и жалости к ним, только сухая злоба. Он ненавидел их голоса, их жесты, их походку, их мелочные, сварливые, завистливые, жестокие глаза. Ему хотелось измываться над ними, пинать, мучить их, плевать в их отекшие от непрерывного пьянства лица! Он ненавидел всё их мошкариное мироустройство, это ликование бездарности, организованное так, что наиболее сильные и выдающиеся оказывались слишком слабыми, ведь им извечно противостояли стадные инстинкты, боязливость окружающих, их численное превосходство. Они, как скопище змей, обнимают и душат друг друга, не давая вырваться из клубка никому. И всё здесь пронизано властью. Даже самый слабый имеет власть над еще более слабым. Даже ребенок имеет власть над жуком, а жук имеет власть над комком земли. А когда последний комок летит на крышку гроба, власть возвращается к земле. И круг замыкается. Вот здесь, в смешанной с гравием мокрой глине, замыкается.
Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 60