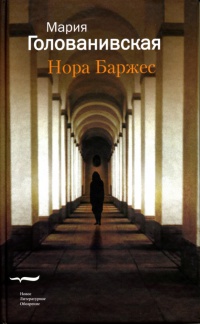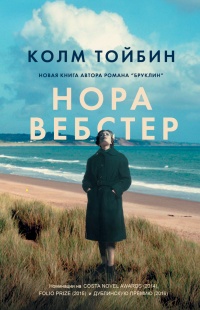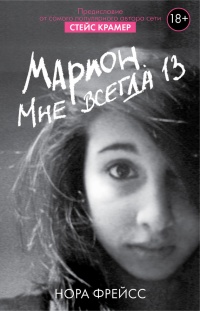– Жофия, – театрально начал он, глядя ей в глаза. – Почему все женщины – такие чудовища?
Жофия вытаращила глаза:
– Ответь мне.
– Нет, вовсе никакие не чудовища. Как раз мужчины в большинстве – чудовища.
Она снова поставила себя в разыгранную позу. Sex quarrel. Некоторые идиоты в Америке решают эти проблемы интрижкой. Борьба полов. А женщины читают на эту тему лекции. Она сказала – мужчины. Он мгновенно представил себе буржуазных мужчин в пальто, с их интрижками, и желание исповедаться прошло молниеносно, как неуловимое мгновение кошмарного сна. Он видел перед собой тупые фиалковые глаза на праздной буржуазной рожице, и сквозь них проступило лицо его Ирены. И он стал самому себе противен.
– Ты со мной согласен? – настаивала Жофия.
– Да, пожалуй.
– Ты говоришь, как будто сам себе не веришь.
– Да, да, ты права.
– Конечно, права. Знаешь, мы, женщины, – продолжала она (его передернуло), – мы, женщины, в принципе, абсолютно нормальны. Мы вовсе не чудовища, как ты говоришь. Если бы не было мужчин, которые считают, что любой ценой должны быть донжуанами, если бы они к нам не приставали…
– Сдаюсь! – воскликнул он с деланным юмором. Глупая корова! И он хотел с ней откровенничать! Поделом. И предложил: – Давай переменим тему.
Она с минутку помолчала, глядя на него пустыми глазами, похожими на обсосанные леденцы. Потом рассмеялась.
Ох, Роберт! – вздохнула она и противным голосом попробовала напеть: – «Love, oh love, oh careless love – you brought the wrong girl into this life of mine!»[16]
Какая корова! Все у них начинается и кончается английским. Цитируют шлягеры, как раньше люди цитировали Библию. Корова! Он молчал – и своим ледяным безмолвием доводил ее до отчаяния. Не болтать нужно, а выбросить Геллена, отмолотить Ирену, потом ей все простить и снова ужасно любить ее.
Унылый эстрадный певец у микрофона сопроводил это решение идиотским английским:
– «I can 't use no woman, if she can 't help me lose the blues…»[17]
Жофия – над этим? – рассмеялась квакающим смехом.
Общение с Иреной Гиллмановой его не очень вдохновило. Поклонившись, он удалился, и ему было неприятно, ибо он ощущал, что не смог развлечь ее. Но потом он услышал, как его зовут волшебным голосом мечты:
– Монти! – и он, узнав голос Ренаты, быстро обернулся. Ему навстречу шла дьявольски прекрасная девушка с брильянтовым колье на шее, с темными глазами на ухоженном лице, нью-йоркская дива в модельном красном платье.
– Хелло, Рената!
– Монтик! Не думала застать тебя здесь!
– Я как раз тебя искал, Рената!
– В самом деле?
– Да!
Они стояли, улыбаясь, друг против друга: он, сельский учитель на воскресной побывке в Праге, и она, англо-американская барышня из Института. Но в ту минуту он об этом почти не думал. Его ошеломила непосредственность идеальной красоты Ренаты. Как будто они всегда были влюбленными. Она улыбалась ему и была прекрасна, но что-то печально ностальгическое висело в воздухе. Ладно, по фигу, кто такая Рената в остальном, кто ее отец, а кто его. И предстоящий понедельник тоже. Они внезапно оказались без кожуры, натянутой на них обществом, судьбой, официальными административными документами. Они были наги, молоды, сексуальны. Как у Хемингуэя. Перед ними жизнь, которую нужно прожить за несколько часов. За несколько минут. Как у Хемингуэя. Но это неважно, так и в самом деле иногда бывает.
– Идем походим внизу, там меньше народу, – произнес он и предложил ей руку. Она сунула свою ему подмышку. Они смотрелись, как на миниатюре из слоновой кости в золотистом свете комнаты Ренаты, увешанной теннисными ракетками. Рената, как всегда, великолепна, янтарные волосы гладко зачесаны и собраны в узел. Прелестная белая шея. Они медленно спустились по ступенькам и остановились в самом низу, у гардероба. И там она повернулась к нему и спросила:
– Ну, как же у тебя сложилось, Монти?
С минуту он не отвечал, купаясь в целительных глубинах ее черных глаз, – и внезапно это его завтра стало в тысячу раз более отчаянным, смертельно трагичным. Он ответил туманно и кратко:
– Еду.
Она молчала, потом почти шепотом спросила:
– И ничего нельзя сделать?
Он покачал головой. Рената смотрела на него серьезно, и его даже тронула эта ее серьезность, не знавшая трагики.
– Рената, мне там будет очень грустно.
– Я понимаю. – Она взяла его за руку.
– Я… – Он чувствовал, что вот-вот заплачет. – Я… Рената, у меня такая идиотская жизнь.
Она сжала его руку.
– Не печалься, Монти.
– Такая идиотская жизнь!
Он ответил на ее пожатие. Ведь он любит ее! Новое горе! Ведь у него было столько времени, а он растратил его в своих колебаниях: любит он ее или не любит, пряча от себя же дурацкую робость перед мейеровской виллой с фонтаном. А сейчас – поздно, это ему смертельно ясно. Страшная, коварная жизнь! Конечно же, он любит ее. Бархатные пальчики прохладно коснулись его руки.
– Ренка, мне хочется застрелиться.
– Но почему, Монти? Ведь ты приедешь.
Он покачал головой.
– Это невозможно.
– Глупости! Через четырнадцать дней ты будешь здесь.
– Да, на воскресенье. Я знаю. Но я не хочу на воскресенье. Я хочу всегда быть здесь. Здесь моя жизнь.
– Но ведь ты же будешь здесь.
Он улыбнулся.
– Конечно, будешь.
– Когда?
– Это не надолго. Увидишь!
Они стояли в углу, в стороне от людей, идущих в гардероб. Он погладил ее руку.
– Очень мило, Рената. Но не надо меня утешать.
Он осмотрелся. Нужно поцеловать ее. Он все еще не поцеловал ее, а теперь, наверное, это будет в последний раз.
– Ренка, пошли!
– Куда?
– Там видно будет. Уйдем отсюда. Рената, это моя последняя ночь.
Она колебалась. Он настаивал:
– Последний день жизни.
Она приложила пальчик к его губам:
– Тихо! – и это возбудило его так, как никогда никакой petting с ней в прошлом. Это уже не рецидив прежнего флирта. Fucking, нежный и страстный – куда бы с ней деться, чтоб наверняка? Почасовые гостиницы эти идиоты закрыли. Да и не пошла бы она с ним туда. Деревенская это выходка, вдруг с ужасом понял он и снова почувствовал смертельную жестокость судьбы. Да и ляжет ли она с ним, даже в своей вилле с фонтаном – это тоже вопрос. Раньше надо было начинать. Гораздо раньше. Надо было наплевать на свои комплексы и попасть к ней в постель еще тогда, в летнем лагере в Крконошах. А сейчас – поздно. Разве что милый старый petting где-нибудь за углом…