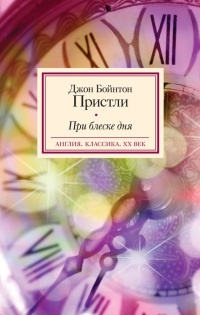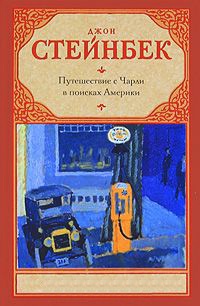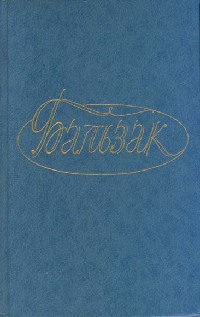– Я ничего не знаю, – неуверенно ответил Мельмот.
Едва не упавший на пол испанец теперь поднялся, высвободился из его рук и, хоть с трудом держась на ногах, стремительно кинулся за свечой (было уже совсем темно) и показал медальон Мельмоту. Оказалось, что это миниатюрный портрет все того же страшного существа. Это было написанное грубой кистью любительское изображение, но сходство поражало: можно было подумать, что создала эту миниатюру не рука человека, а сама душа.
– Значит, он, значит, оригинал этого… ваш предок? Значит, вы владеете страшной тайной, которая… – он повалился на пол, корчась в судорогах; Мельмоту, который сам был еще очень слаб, пришлось уйти к себе.
Прошло несколько дней, прежде чем ему довелось снова свидеться со своим гостем; на этот раз тот был спокоен и отлично владел собой – до тех пор, пока не вспомнил, что должен извиниться перед хозяином дома за причиненное ему в прошлый раз беспокойство. Он начал было говорить, но сбился и замолчал; напрасно пытался он привести в порядок свои спутанные мысли, вернее, бессвязную речь: усилия эти привели его в такое волнение, что Мельмот почувствовал, что должен как-то помочь ему, и, пытаясь его успокоить, очень неосмотрительно стал расспрашивать, с какой целью тот предпринял поездку в Ирландию.
Испанец долгое время молчал, а потом наконец ответил:
– Сеньор, еще всего несколько дней назад никакая сила не заставила бы меня это сказать. Я считал, что мне все равно никто не поверит и поэтому я не должен открывать этой тайны. Я думал, что одинок на земле, что мне неоткуда ждать ни сочувствия, ни помощи. Поразительно, что случай столкнул меня с единственным человеком, который может понять меня и мне помочь, больше того, может даже, если не ошибаюсь, пролить свет на обстоятельства, которые поставили меня в столь необычное положение.
Это вступление, сделанное в сдержанной форме, но потрясающее по своей значительности, произвело сильное впечатление на Мельмота. Он сел и приготовился слушать, а испанец начал уже было говорить, но потом, после минутного колебания, сорвал висевший у него на груди портрет и принялся топтать его ногами с поистине континентальным упорством, крича:
– Дьявол! Дьявол! Ты душишь меня. – А когда портрет вместе со стеклом был разбит на куски, вскричал: – Ну вот, легче стало!
Они сидели в низкой полутемной, скудно обставленной комнате; за окном бушевала буря, и когда окна и двери сотрясались под порывами ветра, у Мельмота было такое чувство, что он слушает вестника «рока и страха». Волнение говорившего было так мучительно и глубоко, что тот весь затрясся, а во время продолжительной паузы, предшествовавшей рассказу испанца, Мельмот услышал, как у него бьется сердце. Он привстал и, протянув руку, пытался удержать своего собеседника, но тот принял это за признак нетерпения и тревоги и начал свой рассказ, в котором, щадя читателя, мы опустим бесчисленные вскрикивания, вопросы, проявления любопытства и вздохи ужаса, которыми его прерывал Мельмот.
Рассказ испанца
– Вам уже известно, сеньор, – начал он, – что я уроженец Испании, так знайте же, что я происхожу из очень знатного рода, одного из самых знатных в стране, которым она могла бы гордиться в дни своей славы, – из рода Монсада. Я сам этого в детстве не знал, помню только, что обращались со мной очень нежно, но жить мне пришлось в очень убогой обстановке и в большом отчуждении от людей. Жил я в жалкой лачуге в предместье Мадрида, и воспитывала меня старуха, чья привязанность ко мне была, как видно, не бескорыстна. Каждую неделю ко мне приезжал молодой дворянин вместе с очень красивой дамой; они ласкали меня, называли милым мальчиком, и я, восхищенный изяществом, с которым мой юный отец завертывался в плащ, а моя мать прикрывала лицо вуалью, и неописуемым превосходством их над теми, кто меня окружал, был сам с ними очень ласков и просил их взять меня к ним домой; слыша эти слова, они всякий раз плакали, делали какой-нибудь ценный подарок старухе, у которой я жил и которая, предвкушая его, всегда в их присутствии старалась быть особенно услужливой, и – уезжали.
Я заметил, что приезжали они всегда поздно вечером и очень ненадолго; таким образом, детство мое было окутано тайной, наложившей неизгладимую печать на весь мой характер и на чувства и стремления, владеющие мною сейчас.
Потом в жизни моей произошла внезапная перемена: однажды за мной приехали, переодели меня в роскошное платье и посадили в великолепную карету, находиться в которой мне было так удивительно и непривычно, что у меня закружилась голова, – и привезли во дворец, стены которого, как мне тогда казалось, поднимались к самому небу. Меня поспешно провели сквозь анфиладу покоев, роскошь которых слепила глаза, где множество слуг встречало меня низкими поклонами, в кабинет, где восседал благородного вида старец; поза его была столь величественна и его окружало такое торжественное молчание, что мне захотелось пасть на колени и поклоняться ему, как мы поклоняемся какому-нибудь святому, чье изваяние мы видим, пройдя через приделы огромного храма, где-то в глубине его, в уединенной нише. Мои отец и мать стояли тут же, и оба были преисполнены благоговейного страха перед этим бледным и величественным старцем. Увидав их, я стал еще больше его бояться, и когда они подвели меня к его стопам, то у меня было такое чувство, что меня словно приносят ему в жертву. Он все же поцеловал меня, но неохотно, и лицо его сделалось при этом еще более суровым; когда же вся эта торжественная церемония, во время которой я дрожал, закончилась, слуга провел меня в отведенные мне покои, и все прочие слуги были почтительны ко мне, как к сыну вельможи; вечером мои отец и мать пришли ко мне, оба они целовали меня и плакали, но мне казалось, что слезы их вызваны не только печалью, но и любовью. Все окружающее выглядело настолько необычно, что и во мне самом пробудилось, должно быть, что-то новое. Сам я настолько переменился, что мне хотелось видеть изменившимися и окружающих меня людей, и если бы этого не произошло, меня бы это до крайности поразило.
Одна перемена следовала за другой с такой быстротой, что меня это опьяняло. Мне было тогда двенадцать лет, и образ жизни, который я вел в раннем детстве, непомерно развил мое воображение, подавив все другие способности. Всякий раз, когда открывалась дверь, что бывало нечасто и лишь для того, чтобы возвестить, что наступил час мессы, обеда или занятий, я ждал, что непременно должно произойти нечто необычайное. На третий день после прибытия моего во дворец Монсада дверь отворилась в неурочное время (одно это повергло меня в дрожь от предчувствия того, что будет) и вошли родители мои в сопровождении многочисленных слуг. С ними был мальчик; будучи выше меня ростом и обладая уже сложившейся фигурой, он выглядел старше меня, хотя в действительности был на год моложе.
– Алонсо, – сказал мне отец, – обними своего брата.
Я кинулся к нему со всем простодушием и нежностью детства, которое радуется каждой новой привязанности и, может быть, даже хочет, чтобы она длилась вечно. Однако неторопливые шаги моего брата, та сдержанность, с которой он на какое-то мгновение протянул обе руки и склонил голову мне на левое плечо, чтобы потом тут же вскинуть ее и уставиться на меня пристальным взглядом своих светившихся высокомерием глаз, оттолкнули меня и обманули мои ожидания. Тем не менее, исполняя желание отца, мы обняли друг друга.