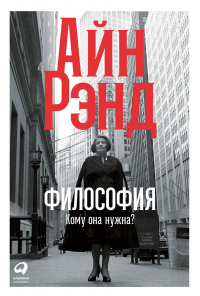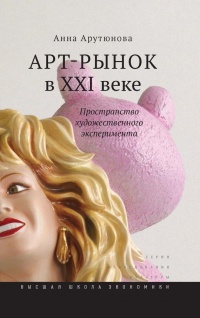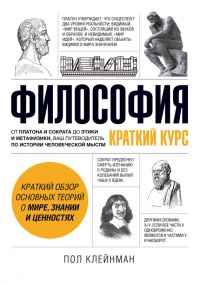Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 115
Древнюю историю в целом можно рассматривать как трагический период истории. И судьба есть Провидение, но созерцаемое в реальном, подобно тому как Провидение есть судьба, но созерцаемая в идеальном. Вечная необходимость во времена тождества с ней раскрывает себя как природа. Так это обстоит у греков. После отпадения от тождества необходимость проявляется в виде судьбы в суровых и насильственных ударах. Есть только одно средство избавиться от судьбы – броситься в объятия Провидения. Это и было то чувство, которое охватило мир в этот период глубочайшего переворота, когда судьба строила свои последние козни против всей красоты и великолепия Античности. В это время древние боги потеряли свою силу, оракулы смолкли, празднества затихли, и, казалось, перед родом человеческим открылась бездонная пропасть, полная дикого смешения всех стихий былого мира. Над этой темной пропастью как единственный знак мира и равновесия сил появился крест, как бы радуга второго всемирного потопа, как его называет испанский поэт84, в такое время, когда уже не оставалось ничего другого, кроме как уверовать в этот знак. Как из этой смутной материи в конце концов развернулся второй мир поэзии, как она превратилась в мифологическую материю, это я охарактеризую хотя бы в основных чертах. (Когда я представлю всю полноту мифологического материала, заложенного в христианстве, я смогу общий результат, как и раньше, изложить в немногих главных чертах.)
Чтобы понять мифологию христианства в ее принципе, мы должны вернуться к точке ее противоположности – греческой мифологии. В последней универсум созерцается как природа, в первой – как моральный мир. Характер природы есть нерасчлененное единство бесконечного и конечного: конечное преобладает, но в нем как в общей оболочке заложено зерно абсолюта, полного единства конечного и бесконечного. Характер нравственного мира – свобода – есть изначально противоположность конечного и бесконечного при абсолютном требовании устранения противоположности. Но даже и этот мир, поскольку он основывается на облечении в бесконечное, опять-таки находится под определением бесконечного, так что противоположность всегда может быть преодолена в единичном, но никогда – в целом.
Если, таким образом, в греческой мифологии выполнением требования оказывалось изображение бесконечного, как такового, в конечном, т. е. символика бесконечного, то в основе христианства лежит противоположное требование – включить конечное в бесконечное, т. е. сделать его аллегорией бесконечного. В первом случае конечное значит нечто само по себе, так как оно само в себя принимает бесконечное. Во втором случае конечное само по себе есть ничто, смысл его лишь в том, что оно обозначает бесконечное. Подчинение конечного бесконечному – вот, таким образом, характер подобной религии.
В язычестве конечное, как наделенное само по себе бесконечностью, имеет такое большое значение по сравнению с бесконечным, что в нем даже допустим мятеж против божественного, и это даже составляет принцип возвышенного. В христианстве происходит безусловное подчинение себя неизмеримому, и это составляет единственный принцип красоты. Из этого противопоставления можно полностью понять все прочие возможные противоположения язычества и христианства, например преобладание в первом героических, в последнем кротких и мягких добродетелей, там суровой храбрости, здесь любви или во всяком случае храбрости, умеренной и смягченной любовью, как во времена рыцарства.
Мифология греков составляла замкнутый мир символов идей, которые могут быть созерцаемы реально лишь как боги. Чистая ограниченность, с одной стороны, и нераздельная абсолютность – с другой, суть определяющий закон для каждого отдельного образа Бога, так же как для божественного мира в целом. Бесконечное созерцалось лишь в конечном и таким образом само оказывалось подчиненным конечному. Боги были существами высшего порядка, устойчивыми, неизменными образами. Совершенно иное соотношение имеет место в такой религии, где дело идет непосредственно о бесконечном, как таковом, где конечное мыслится не как символ бесконечного, и притом ради себя самого, но лишь как аллегория бесконечного и в совершенном ему подчинении. Целое, в котором объективируются идеи такой религии, само неизбежно есть нечто бесконечное, а не со всех сторон завершенный и отграниченный мир: образы не в устойчивом пребывании, а лишь в явлении, не вечные природные существа, а исторические образы, в которых божественное открывается лишь временно; их мимолетное явление может быть закреплено лишь с помощью веры, но никогда не может быть превращено в абсолютную наличность (Gegenwart).
Где бесконечное само может стать конечным, оно может оказаться и множеством, и потому политеизм возможен; но там, где оно только обозначается через конечное, оно неизбежно остается единым и политеизм как совместное существование божественных образов невозможен. Политеизм возникает из синтеза абсолютности с ограничением, так что в нем не устраняются ни абсолютность формы, ни ограничение. В такой религии, как христианство, религиозный элемент не черпается из природы, так как христианская религия берет конечное вообще не в качестве символа бесконечного и не в его независимом значении. Следовательно, такая религия может возникнуть из того, что подчинено времени, т. е. из истории, поэтому христианство по своей самой внутренней сути и в высшем своем смысле исторично. Каждый отдельный момент времени есть откровение некой особой стороны Бога, причем в каждой из них он абсолютен; что в греческой религии дано как одновременность, в христианстве дано как последовательность, хотя время разделения явлений и вместе с тем их оформления еще не наступило.
Можно было бы подумать, что в идее христианства, утверждающей в божестве множественность лиц, сохранился след политеизма; но что триединство, как таковое, не может быть истолковано как символ какой-нибудь идеи, явствует из того, что эти три единства в самом божественном естестве мыслятся вполне идеально и суть сами идеи, а не символы идей, из того, что идея триединства имеет всецело философское содержание. Вечное есть отец всех вещей, никогда не выходящий из своей вечности, но рождающий себя от вечности в двух столь же вечных, как он, формах: конечное, которое есть сам по себе абсолютный, а во внешнем явлении страдающий и вочеловечивающийся Сын Божий, и затем вечный дух, бесконечное, в котором все вещи суть одно. Над этим все растворяющий в себе Бог.
Можно сказать, что, если бы эти идеи сами по себе были в состоянии обладать поэтической реальностью, они смогли бы ее получить через то, что с ними сделали в христианстве. Они с самого начала были приняты в полной независимости от их умозрительного смысла, всецело исторически, буквально. Но уже первоначальный их строй сделал невозможным символическое их изображение. Данте, который в последней песне своего «Рая» достигает созерцания Бога, видит в глубинах прозрачной субстанции Божества три световых круга различной окраски и одного размера85; один из них, казалось, только отражался от другого, как радуга от радуги, а третий был фокусом и одинаково излучался во все стороны. Но Данте сам сравнил свое положение с положением геометра, который всецело устремляет свои взоры на измерение круга и не находит того принципа, который ему необходим86.
Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 115