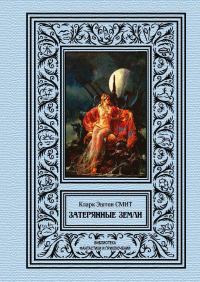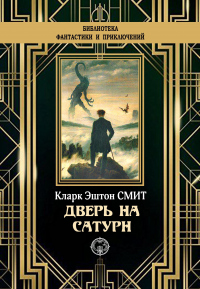которую уже сковывало трупное окоченение.
Час спустя Джонс запер опустевшую контору, где ничто не заставило бы его задержаться на лишний миг. Он чувствовал себя так, словно только что избежал инквизиторских пыток, однако не избавился от преследования кое-чего пострашнее инквизиции. Дознание превратилось в тягостный кошмар наяву и не привело ни к каким значимым результатам, помимо констатации бесспорного факта смерти Джонсона. Не удалось выявить – или хотя бы заподозрить – кого-либо причастного к этой смерти. Машину Джонсона нашли в переулке на задах здания. В багажнике лежали чемоданы – его и мисс Оуэнс. Все указывало на то, что парочка планировала ограбить контору и тотчас пуститься в бега.
Мисс Оуэнс увезли в местную больницу и передали под наблюдение врачей. Репортеры приставали к Джонсу с вопросами, на большинство которых он не смог бы ответить даже при всем желании. Так что им, как и коронеру с полицейскими, пришлось удовлетвориться тем, что все это дело представляет не меньшую загадку для Джонса, чем для остальных. Но теперь его терзали мрачные предчувствия, а к сильнейшему потрясению и сверхъестественному ужасу добавилось еще и подобие чувства вины. Когда Джонс, ни на чем не фокусируя внимания, брел по залитой солнцем улице, он ощущал совсем рядом неотступное чужое присутствие.
То была тень. За ночь эта тварь изменилась, обретя новые свойства. Плотная и трехмерная, она шагала между Джонсом и солнцем, как темное четвероногое чудище, приподнявшись над тротуаром почти вровень с талией Джонса. Она уже не зависела ни от него, ни от света – теперь это было нечто самосущее, черный звероподобный двойник.
[На этом месте рукопись рассказа «Я твоя тень» обрывается.]
Чародейка из Силера
– Нет уж, простофиля несчастный! Я ни за что не выйду за тебя, – объявила Ансельму девица Доротея, единственная дочь сира де Флеше, надув вишневые, как спелые ягоды, губки. Ее голос был словно мед, но за его притворной сладостью скрывались острые пчелиные жала. – Не так уж ты и уродлив. И манеры у тебя хорошие. Но очень жаль, что у меня нет зеркала, которое показало бы тебе, какой ты болван!
– Но почему? – озадаченно вопросил Ансельм, уязвленный до глубины души.
– Потому что ты всего лишь безмозглый мечтатель, начитавшийся книг, точно монах. Ты любишь только свои глупые рыцарские романы и легенды. Говорят, ты даже пишешь стихи. Большая удача, что ты второй сын графа де Фрамбуазье, – больше тебе никогда никем не стать.
– Но вчера мне казалось, что вы меня чуть-чуть любите, – произнес Ансельм с горечью. – Женщина не видит ничего хорошего в мужчине, которого больше не любит.
– Олух! Осел! – вскричала Доротея, заносчиво тряхнув белокурыми локонами. – Будь ты не таким, как я тебя назвала, ты никогда не напомнил бы мне о вчерашнем. Убирайся, и чтобы я больше тебя не видела.
Ансельм, отшельник, немного вздремнул, беспокойно ворочаясь на своем узком и жестком ложе. Видимо, духота летней ночи будоражила его кровь.
И естественный пыл юности тоже подогревал его волнение. Ансельм не хотел думать о женщинах – в особенности об одной из них. Но, проведя тринадцать месяцев в полном одиночестве, в сердце дикого Аверуанского леса, он все еще не мог выкинуть ее из головы. Насмешки, которыми осыпала его Доротея де Флеше, были жестокими, но еще мучительнее были воспоминания о ее красоте: пухлых губках, округлых руках и тонкой талии, а также о груди и бедрах, которые не приобрели еще зрелой пышности форм.
Когда удавалось задремать, Ансельма одолевали многочисленные сновидения, принося с собой и другие образы, прекрасные, но безымянные.
Юный отшельник поднялся на рассвете, утомленный, но не нашедший успокоения. Он решил, что, как это частенько бывало, купание в заводи, питаемой рекой Исуаль и скрытой в ивовых и ольховых зарослях, поможет ему освежить голову. Вода, восхитительно прохладная в этот утренний час, успокоит его лихорадку.
Глаза защипало, когда из темной хижины, сплетенной из ивовых прутьев, он вышел в золотистую утреннюю дымку. Мысли его витали где-то далеко, все еще исполненные ночного волнения. Все-таки не ошибся ли он, когда удалился от мира, покинув друзей и семью и став отшельником, и все из-за немилости какой-то девчонки? Он не пытался лгать себе, что стал затворником из стремления к святости, которая поддерживала в испытаниях анахоретов прежних времен. Не усугублял ли он, живя так долго в одиночестве, свой недуг, который надеялся тем самым исцелить?
Возможно, пришла к нему запоздалая мысль, он выставил себя бесплодным мечтателем и праздным глупцом, в чем и обвиняла его Доротея. Непростительной слабостью было так поддаться разочарованию.
Бредя с потупленным взором, он незаметно дошел до зарослей, окаймлявших заводь. Не поднимая глаз, он раздвинул молодые ивовые кусты и чуть было не сбросил с себя одежду. Но в тот же миг раздавшийся поблизости плеск воды пробудил его от задумчивости.
С некоторым испугом Ансельм осознал, что в заводи уже кто-то купается, и, что напугало его еще больше, это была женщина. Стоя почти в середине, там, где дно уходило в глубь, она плескалась до тех пор, пока по воде не пошли волны, доходящие ей до груди. Бледная влажная кожа поблескивала на солнце, как лепестки белой розы в капельках росы.
Испуг юноши сменился любопытством, а затем и невольным восхищением. Он твердил себе, что предпочел бы уйти, но опасается испугать купальщицу внезапным движением. Склонившись так, что ему видны были ее четкий профиль и прелестное левое плечо, она не замечала его присутствия.
Женщина, тем более молодая и красивая, была тем зрелищем, которое он хотел бы видеть в последнюю очередь. И все же он не мог отвести от нее глаз. Она была ему незнакома и явно не из окрестных деревенских девушек. Она была прекрасна, как хозяйка какого-нибудь роскошного аверуанского замка. Но несомненно, ни одна дама или девица благородного происхождения не стала бы в одиночестве купаться в лесном пруду.
Густые каштановые кудри, перехваченные воздушной серебряной лентой, тяжелой волной ниспадали на плечи, отливая пылающим красным золотом в лучах рассветного солнца, пробивавшихся сквозь листву. Обвившая ее шею тоненькая золотая цепочка, казалось, отражала блеск волос, пританцовывая на груди, пока купальщица играла с волнами.
Отшельник замер, зачарованно глядя на нее, точно опутанный паутиной внезапного колдовства. Горячая юная кровь ударила ему в голову, отвечая на властный призыв красоты.
Утомленная игрой, красавица повернулась спиной и двинулась к противоположному берегу, где, как только что заметил Ансельм, в очаровательном беспорядке на траве лежали многочисленные женские одеяния. Она медленно