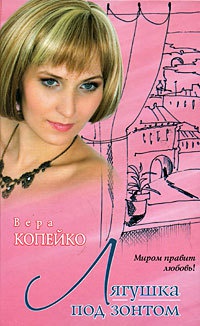Ознакомительная версия. Доступно 14 страниц из 69
Сами же монахи немедленно начинали священнодействие: выносили китайские молельные знамена и святыни с доказанным волшебным действием — сертификаты о чудодейственности прилагались. За ними следовали разнообразнейшие боги и идолы, от мирных и толстых, как упомянутый уже Милэ, до хищно-бородатых басяней, вращающихся на облаках, поднимающих ветер и гром, испекающих в огненном тигле живота своего пилюлю бессмертия, пьющих рвотные настои с ртутью и золотом, перекидывающихся в лис и обратно, портящих невинных девиц и юношей, наводящих морок и изумление на честных ханьцев. Огромная всемилостивая Гуаньинь, прозрачно-нефритовая, в прозелень, соседствовала здесь с мелкими тибетскими чертями жарко-рыжей меди — хвостатыми, рогатыми и зубатыми, которым тоже молились добрые люди и без которых нельзя было представить ни одного приличного ламу. Черти были старые, в зубах у них копился кариес, в лысеющих хвостах — парша, но силы их, особенно вредоносной, никто отрицать не смел. Черти имелись как в отдельном виде, так и нанизанные Буддой, словно птенчики, на длинное жесткое копье — в знак его, Будды, над ними торжества и подчинения колесу Закона.
Произведя положенные моления, монахи всех сортов усаживались на местах и начинали то, ради чего и затевалась вся окрошка: молились за рожденных и умерших, врачевали безнадежных больных, высчитывали благоприятные дни, выдумывали имена для младенцев, а также по линиям руки и кошельку клиента безнаказанно предсказывали прошлое, настоящее и будущее. Тибетцы, не желая отставать, выносили в стеклянном гробу ламу, умершего 30 лет назад, но до сих пор нетленного. Лама был лыс, разогрет на жарком солнце, глаза держал закрытыми, рот — презрительно поджатым, словно бы говоря: знаю я вас, подлецов. За десять копеек все желающие могли колупнуть пальцем полупрозрачную липкую кожу и убедиться в его полной и окончательной нетленности. Сидящие неподалеку даосы ревниво пожимали плечами и втихомолку объясняли, что колупание и сидение в гробу с закрытыми глазами не есть подлинное бессмертие. Единственное правильное бессмертие можно получить только через даосское посвящение, и стоит оно куда дороже, чем помянутые десять копеек. Нет-нет, не менее чем за десять рублей можно было обрести тут подлинное бессмертие, за меньшую цену не стал бы с вами разговаривать даже самый зачуханный даос в самом дырявом халате, не имеющий денег на нефритовую заколку в волосы.
Впрочем, даосам не уступали в чудесах монахи-хэшаны. Среди них были воины-усэны, способные за небольшую плату чудовищно твердым своим мужским предметом раскалывать не только придорожные булыжники, но даже особым образом закаленные кирпичи, и к тому же с разбегу пробивать лысой головой дыры в Великой китайской стене, о чем также имелись у них подтверждающие сертификаты. Монахи рубили друг друга широкими мечами-дао, но на телах у них не выступало ни капли крови, только багровые рубцы надувались — это защищал их пресловутый цигун «железной рубашки», а наиболее могучих — даже и «алмазный колокол». Особенно любили они мастерство легкости и вставания голыми ногами на яйца — без всякого причем урона, раздавливания и вкладывания сюда иного смысла, кроме душеспасительного. Ходили слухи, что сильнейший среди них, по имени Цингун, даже взмывал в воздух без воздушного шара, одним только надуванием в полые органы космического газа ци, за безупречную жизнь переданного им в полное распоряжение бодхисаттвой Кшитигарбхой. Правда, поднимался Цингун невысоко, всего на полметра, но и это был бы хлеб, если бы он хоть раз явился к нам на ярмарку и лично продемонстрировал свое мастерство.
Но лучше всего выходили у хэшанов не чудеса даже, а рассказы о буддийских наставниках и патриархах, в далеких китайских горах в одиночестве и забвении совершавших удивительные свои подвиги. Тут говорили про наставника Чу-иня, который голыми руками прокопал подземный ход от монастыря до ближайшей горы, обрел пробуждение и переродился гигантским червяком, рассказывали о том, что в монастыре Южный Шаолинь девятый год созерцает стену прямой потомок Бодхидхармы, от взгляда которого пучит и рассыпается камень и, наконец, с трепетом поминали патриарха Хуэйнэна, который мог задать такой вопрос, на который не было ответа даже в страшной гадательной книге «И-цзин», распоряжавшейся тысячелетними черепаховыми панцирями, как игральными кубиками.
Какое отношение все эти святые люди имели к ярмарке маньчжура Хого, на которой можно было купить все, от вьючных животных до продажной любви, знал, наверное, только сам Хого. Впрочем, остальные китайцы не видели в этом ничего удивительного, это была традиция, а традицию не обсуждают.
— Где деньги, там и боги, где боги — там и деньги, — объяснял все-таки любопытствующим русским китаец Федя. — Это есть главный китайский секрет, кто его постигнет, будет править миром.
У распорядителя ярмарки Хого было несколько жен — молодые, гибкие женщины из провинции Юньнань, танцующие танец любви, с взглядом развратным и сильным, обещающим такие радости, на которые не способны ни крепкие, словно из дуба вырубленные женщины Шаньдуна, ни длинноволосые черные мяо из провинции Цзянси, ни маленькие красавицы Гуйчжоу. Жены эти привыкли повелевать мужчинами и лепить из них тесто — за их же собственные деньги. Жен своих Хого сдавал на время ярмарки в аренду всем желающим в отдельной большой палатке — тенистой, прохладной и в то же время раскаленной огнем любви, который вечно царствовал тут, словно в преисподней.
Сюда приходили все — и русские, и евреи, и, конечно же, китайцы, приходили мужчины самого разного возраста, бородатые, седеющие, седые, лысые, с густыми волосами по всему телу и едва только зачинающимся пухом между худых, бледных, сотрясающихся юношеской страстью ног — и никто не покидал это место недовольным, недолюбленным, каждому находилось утешение, а кому было мало, перед тем разверзались бездны, от которых не всякий скоро приходил в себя, а иные — никогда, и так потом и бродили бледными тенями по берегу Амура много позже того, как ярмарка истаивала в необозримых, мерцающих золотыми миражами просторах старого Китая.
Год за годом ярмарка Хого приезжала на берега Черного дракона, год за годом жены его принимали всех пылающих страстью, и с каждым годом прибавлялось у старого Хого детей самой разной масти — узкоглазых, черноволосых, носатых, русых, худых и толстых, бранящихся на всех наречиях Поднебесной, потому что брань есть основа жизни простого народа, и если изъять ее, то начнутся бунты и нестроения. Из девочек вырастали для Хого новые жены, которые заменяли в шатре располневших и состарившихся от неумолимого хода времени матерей своих. К нелегкому служению жриц любви они приступали, едва достигнув десяти лет, а кому повезет, то и раньше — среди клиентов ярмарки много было ценителей юности, неразумно и расточительно было бы позволить девочкам терять лучшие годы. Сыновья же со временем становились на ярмарке оборванными носильщиками и полуголыми рикшами, из них росли угрюмые охранники или злые карлики для представлений, буддийские хэшаны и даосские горные отшельники, грамотеи для писания жалоб начальству, загадочные факиры и укротители обезьян на цепи, такой длинной, что хватило бы до царства Яньвана. Сами же обезьяны эти — мохнатые, краснозадые, клыкастые, показывающие непристойные трюки, смотрели с лица своего так мрачно, как будто бы вышли из ада, и были не просто обезьянами, а демонами из числа потомков Сунь Укуна — главной китайской мартышки, которой, говорят, до сих пор молятся немногие посвященные в тайных, скрытых от чужого глаза капищах.
Ознакомительная версия. Доступно 14 страниц из 69