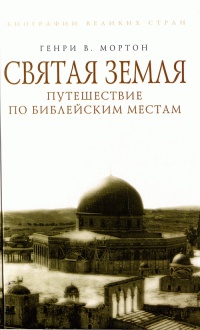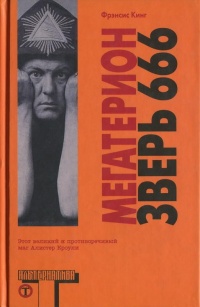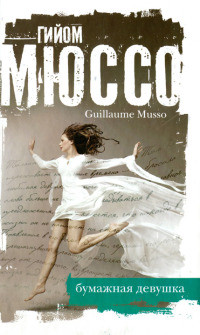— Александр Сергеевич! Какими судьбами? — воскликнул отец, узнав Пушкина.
— Уйди с дороги, Гриша, — сказал Пушкин и одним прыжком подскочил к башкирскому князю. — Негодяй, каналья, мошенник, подлец! Где она, моя несравненная? Где моя красавица? Моя сладчайшая Зюльнара? Что ты с ней сделал, Аскар Байбек? Что ты с ней сделал, шакал поганый? Если хоть один волос упал с ее головы, не уйти тебе отсюда живым. Отвечай немедленно: где Зюльнара?
— Здесь она! Здесь, Александр Сергеевич! — отвечал князь, приподымая расшитое покрывало, под которым спала, свернувшись клубком, как котенок, женщина.
— Давай, князь, выйдем и порешим дело разом. С тобой тут, я вижу, двое почтенных друзей, вот и я повстречал друга. Будешь ли моим секундантом, Гриша?
— Александр Сергеевич… Метель… И пистолета в руке не увидать… Как стреляться-то в эдакую метель?..
— Чушь! Mon parti est pris![32]— отрезал Пушкин. — Всякая погода хороша, чтоб родиться, и всякая погода хороша, чтоб умереть, особенно, когда речь идет о полевой мыши.
— Тут какое-то недоразумение, Александр Сергеевич, — начал степенно Аскар Байбек.
— Недоразумение, какое бывает у карманника с торговцем: случайно рука одного оказалась в кармане у другого. Пойдем, Аскар Байбек, довольно языком молоть.
— Александр Сергеевич! — вскричал мой отец.
— Александр Сергеевич, — по-прежнему спокойно сказал башкирский князь, — неотложные дела требуют меня в Петербург.
— Чушь! Мертвому долги спишут! И убери-ка руку с пояса, а то я тебе вмиг лоб раскрою! — обратился поэт к одному из спутников князя.
— Господа, будьте милосердны! Потише, пожалуйста, здесь тяжелобольной, — проговорил один из монахов, тот, что пониже ростом. Все посмотрели в его сторону. Тощий старик, закутанный в потертый тулупчик, живой скелет, кожа да кости, лежал, привалившись к стене. Он приоткрыл глаза и улыбнулся, его улыбка появилась на лице помимо сознания, как у младенца. Пушкин обратился к меньшему монаху:
— Тебя как зовут?
— Пантелей, ваша светлость, — ответил монах.
— Возьми этот порошок, Пантелей, и дай ему. Пусть проглотит.
Маленький монах поцеловал заиндевевший рукав.
Башкирский князь тем временем перешептывался со своими головорезами.
— Александр Сергеевич, — сказал он, — вы меня вызвали на дуэль. Я принимаю вызов, но прошу отложить дело на полгода. А теперь предлагаю… метнуть банк… кто выиграет — получит Зюльнару. Если вы выиграете, получите еще 600 рублей. А через полгода встретимся, где только пожелаете.
— В карты… на любимую женщину… Да вы, сударь, подлец… Зюльнара… Шакал, как есть шакал! — процедил Пушкин. — Стреляться! Хватит шутки шутить!
— Александр Сергеевич! 1000 рублей!
— Сколько вы сказали?
— Тысяча, — тихо выговорил Аскар Байбек.
— Ну, что скажешь, Гриша?
— Дуэль отложите, а в карты не играйте. Мошенники они, за версту видать.
— Что ж, неужто мои руки так свело подагрой, что я и банк метнуть не могу?
— Александр Сергеевич, одумайтесь!
— Что мне не дает покоя, Гриша, что мне не дает покоя — честно ли будет отложить дуэль, коль скоро я его оскорбил?
— Да вы же сами его шакалом назвали, мышью полевой. О какой чести может идти речь с этими презренными людишками?
— C'était une façon de parler, Grisha. C’est quand meme un prince du sang…
— Mais quel sang, bon Dieu… C'est du sang Bachkir… Vous exagérez, Alexandre Serguéiévitch…
— Que savons-nous de tout cela, mon cher? Qui s'y connait véritablement?
— C'est du sang Bachkir… — упорствовал мой отец.
— Laissons plutot leur voile à ces mystères[33], — сказал Пушкин задумчиво. Он энергично прошелся по хижине, снова приблизился к Зюльнаре, откинул расшитое тюльпанами покрывало, долго всматривался в девичье лицо и наконец сказал:
— Воля твоя, Аскар Байбек! Сыграем!
— Александр… — начал было мой отец.
— Играем! Mon parti est pris!
— И что же дальше? спросил я.
— А что могло быть дальше? — ответил старый сын Яковлева. — Карты были засаленные и рваные, а может, и крапленые; Пушкин проиграл. Потом проиграл еще триста рублей и выдал вексель. А Аскар Байбек был уверен, что дуэли не будет. Потратить триста рублей, чтоб к тому же убить кого-то, кого ты едва знаешь?! Тут проснулась Зюльнара и, увидев Пушкина, вскрикнула. И тогда очнулся от забытья больной — старый монах, — огляделся по сторонам понять, что за крик такой. Но мог ли он различить башкирских разбойников, полоумного татарина, закутанную в розовые шелка и обвешенную браслетами и монистами девицу из гарема, Пушкина или моего отца? Их для него не существовало. Однако Пушкин увидел лицо старика, увидел его чистый, детски-наивный взгляд и странную мудрость, светящуюся в нем, его беспредельную любовь — понимаете ли, доктор? — любовь, подобной которой он не встречал. Эта улыбка монаха… она и когда угасла, не сменилась горькой или болезненной гримасой, как то случается даже у самых неотразимых красавиц. Впечатленье это надолго врезалось ему в память, подобно последнему отблеску заката на вечернем небе. Пушкину хотелось обхватить голову старика ладонями и поцеловать его в темя.
Он обратился к маленькому монаху:
— Как, говоришь, твое имя?
— Пантелей, ваша светлость, — отвечал монах тихим, надтреснутым голосом.
— Жар не прошел?
— Не прошел, ваша светлость, не прошел.
— Кто это, Пантелей?
Великое изумление отобразилось на лице маленького монаха.
— Да это же, ваша светлость, отец Серафим…
— Серафим? — повторил Пушкин.
Пытаясь скрыть неловкость, оттого что такой знатный господин, может, офицер, а может, важный чиновник, не слыхал о Серафиме, монах прошептал:
— Возможно ли, благодетель мой, что вы не слыхали о чудесах, которые он сотворил, о долгих годах, которые провел в полнейшем уединении, наложив на себя обет молчания?
— Наложив на себя обет молчания? — эхом повторил поэт.
— Никогда человек не раскаивался в том, что молчал, говорил отец Серафим, — прошептал монах.