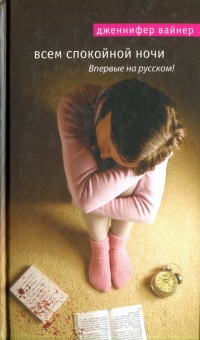На протяжении всей второй недели на острове Кейт читала про тот год, что Элизабет провела, ухаживая за Амелией. Перед ней постоянно стояло три задачи: заставить мать принимать лекарства, выполнять все назначения врача, пытаться ее покормить. В хорошие дни они куда-нибудь выезжали; Элизабет тогда брала с собой кружки с крышечками, заваривала чай с мятой, и они катались по историческому центру города, петляя среди со вкусом восстановленных викторианских зданий. Поездка всегда заканчивалась на пляже. Наблюдали за чайками над водой. Парковались там, где Элизабет когда-то останавливалась с Майклом.
Время шло, их отношения постепенно налаживались, но никогда не переходили в более душевные.
«В этом не было ничего от эмоционального прозрения, которое предполагается при длительном уходе за больным человеком. Мы сердечны друг с другом, и временами в отношениях даже возникает некая теплота. Я зачла ей два последних более нормальных года, так что образовалось какое-то хрупкое подобие близости. Однако мне и сейчас кажется, что я ни черта о ней не знаю».
«Да, – подумала Кейт. – Уж мне-то понятно, о чем ты говоришь».
В марте им позвонили насчет ипотеки. Дела оказались в расстроенном состоянии. Приблизительно в то же время рекламное агентство, в котором последние несколько лет работала Амелия, прислало запрос, собирается ли она возвращаться на работу в ближайшее время, поскольку они заинтересованы в работнике на постоянной основе. По первому побуждению Элизабет ответила, что хотела бы временно занять ее место, и представила отзывы из галереи в Сохо, где работала, учась на втором курсе. Так началась ее работа в агентстве. Три дня в неделю она приезжала в Стэмфорд на машине матери. Через несколько месяцев ее уже перевели на должность помощника начальника отдела дизайна. Еще Элизабет подрабатывала на стороне, помогая с графикой и изучая тем временем компьютерные программы. К тому времени открылась вакансия для дизайнера начального уровня; никто не спрашивал ее о дипломе и степени.
В мае Амелии пришлось пройти клиническое обследование в клинике Нью-Хейвен. Это означало, что несколько дней в неделю ее нужно было отвозить туда и привозить обратно. Сначала Малкольм, начальник Элизабет, был против каких-либо изменений в расписании и настаивал, чтобы она нашла какие-то другие возможности для транспортировки матери. «Что же мне теперь делать, платить за такси? Нанимать сестру по уходу? Я не для этого возвращалась домой. Я понимаю ее хуже, чем некоторых чужих людей. Но я не для того приехала домой, чтобы платить кому-то еще за уход за собственной матерью». В итоге Малкольм вынужден был пойти на уступки и разрешил Элизабет работать на почасовой основе с уменьшением зарплаты.
На некоторое время состояние Амелии стабилизировалось. «Ее лечащие врачи говорят об этом так, словно речь идет о кружащем над Ла-Гуарда 747-м». Но самолет пошел на посадку – летом ее состояние резко ухудшилось.
12 августа 1985 года
Это распространяется. Ей намного хуже, и она совсем ничего не ест. Делаю коктейли из детского питания и покупаю дурацкие детские соломинки в магазине игрушек, потому что они заставляют ее улыбаться. Только все это не может что-либо изменить. Она постоянно раздражена, но теперь, если я успеваю вовремя ввести наркотик, в ней проявляется то, чего я прежде не видела. Или, может, это всегда было, только не выставлялось напоказ. Или не для меня.
Сегодня днем я заговорила с ней о той старой, темно-серой книге, которую она повсюду годами таскала за собой, словно Библию. Наверное, она пребывала в каком-то особом расположении духа, потому что раньше все мои вопросы оставались без ответа. Я бегло пролистала книгу несколько раз, пока она спала. Там много трепа насчет огня и души, переключения с гнева и вредных привычек, истины и духовности, портрет какого-то длинноволосого парня на обложке. Думаю, он мог иметь отношение к той ее поездке, когда мы с отцом были во Флориде. Есть у меня такое чувство.
«Красивая обложка, – сказала я, указывая на книгу. – Хорошо бы смотрелась как картина. Мне так кажется, это напоминает строгий азиатский стиль в соединении с лиственным орнаментом, который, может, и смотрелся красиво, но теперь сильно загрязнился и затерся». Я знала, что рисковала, так вот все упрощая, но каждый ищет шанс там, где может.
«Красивая обложка, – повторила она. – У тебя все всегда сводится к эстетике. Мне бы хотелось, чтобы ты по-настоящему во что-то верила, Лиззи».
Я выждала секунду, проглотила раздражение. Она всегда пользуется искусством, когда хочет указать на что-то, чего мне не хватает. Я постаралась представить, каково это – знать, что у тебя совсем не осталось времени, что теперь ничего уже не изменить. Быть матерью ребенка, в котором не узнаешь ни одной своей черты, – это, наверное, большое разочарование и напоминание о той, кого ты не смогла сохранить.
«Я во многое верю», – сказала я.
Она покачала головой: «Ты закрыта, Лиззи, невосприимчива, не расположена к людям».
Я ничего не могла с собой поделать. «Закрыта»? Интересно, у кого я научилась этому, мама? Ты просто королева скрытности. Я посмотрела на книгу и хотела добавить: «Хотя, может быть, с ними ты была другой», – но промолчала.
Она посмотрела на меня тяжелым взглядом расширенных морфием глаз. Потом сказала, что взросление – это в том числе осознание причин своих неудач и их исправление, а не возложение вины на других. «Иногда люди справляются с этим сами, а иногда им нужна помощь. Я сейчас говорю не только о религии, – пояснила она. – Вера – это вера также и в себя; вера в то, что может объединять, сплачивать людей. При правильном настрое и правильной поддержке достичь можно невероятных высот».
Мне всегда не по себе, когда начинают навязывать «позитивное мышление». Всякие гадкие словечки приходят на ум. Типа «костыль», «фрик», «бедолага». Но моя мама не глупа. Что бы это самосовершенствование ни дало ей, кто я такая, чтобы заявлять, будто ей это не помогло? После возвращения она перестала пить, меньше стала злиться, смогла наконец говорить об Анне, устроилась на хорошую работу – вообще выглядела почти счастливой. Вряд ли я могу считать себя авторитетом в вопросах устройства мира. Он может быть круглым и логичным, и все мы произошли от обезьян и тому подобное. А может, есть жизнь на Марсе. И может, есть что-то разумное в «позитивном мышлении» этого длинноволосого гуру…
В голове у Кейт щелкнул идентификатор. Отрывок напомнил ей собственное правило: «Никогда Не Зарекайся». В вещах, которые ты не понимаешь, может быть что-то ценное, возможно, ключ к объяснению необъяснимого. Это было общим для них обеих. Если кто-то выказывал косность мышления и неприятие нового, Элизабет говорила: «боится мозги простудить».
…Она была раздражена, но не закрылась, поэтому я продолжала. «Мама, зачем ты ездила туда? Когда мы с папой были во Флориде?»
Я рассчитывала, что, если она расскажет мне об этом, может, я смогу восстановить оставшуюся часть сама – почему человек едет еще куда-то для того, чтобы, открывшись людям, получить ощущение силы и единения, когда ее собственная плоть и кровь мучится рядом с ней той же проблемой.