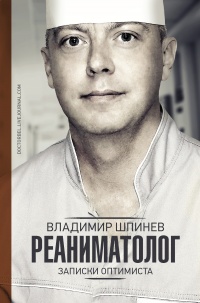27. НАУКАРАМ
II Aum Sarvasiddhaanttaya namaha I Sarvavighnopashantaye namaha I Aum Ganeshaya namaha II
— Неужели тебя не мучила совесть, что ты помогаешь фиренги шпионить за твоим собственным народом?
— За моим народом? Это был не мой народ. Вы что, меня не слушали? Там живут одни обрезанные.
— Все равно. Они тебе ближе, чем ангреци.
— Любой человек мне ближе, чем мийя. Знаете, какие кошмары меня там преследовали? Если я не тревожился, что Бёртон-сахибу могут перерезать горло в каком-то закоулке, то мне снилось, будто наш Гуджарат может стать похожим на Синдх. В моих кошмарах нас осталось совсем мало. Барода носила траур. В моих кошмарах не было звуков. Ни пения, ни колокольчиков, ни аарти. Женщины на улицах были закутаны в черное, словно шли на собственные похороны. Мужчины подступали со всех сторон к нашей испуганной вежливости, они высматривали повод, чтобы схватиться за кинжал.
— В дурных сновидениях повинна твоя собственная голова, а не твой сосед.
— Они не могут быть соседями. Они всеми средствами будут выживать нас прочь, как уже сделали это в Синдхе. Если бы не пришли ангреци, кто знает, как долго мы смогли бы выдержать под их властью.
— Ты грезишь, даже бодрствуя.
— Мы должны защищать себя, здесь, пока наш Гуджарат не превратился в Синдх.
— А что происходило с донесениями твоего господина?
— Он докладывал все генералу. С глазу на глаз. Думаю, они прониклись симпатией друг к другу, генерал и Бёртон-сахиб. Хотя и ссорились. Генерал ждал от каждого солдата, что тот выслушивает приказ и повинуется. И не высказывает собственного мнения, пока его о том не спросят. А Бёртон-сахиб никогда не ждал специального разрешения, чтобы высказаться. Он противоречил генералу, когда считал нужным. И это случалось довольно часто. Он полагал, что генерал хочет изменить в Синдхе слишком много и слишком быстро. У того слишком закостенелое правосознание, вот его излюбленные слова, оно задевает местных людей. Правосудие — это воспитанный вкус, повторял Бёртон-сахиб. Сколько понадобилось времени, чтобы мы привыкли есть на завтрак овсянку? Сколько его понадобится, если нам придется изменить наши привычки в еде и, скажем, перейти на жаренную козью печень? Как-то генерал приказал повесить мужчину, потому что тот заколол жену, узнав, что она ему изменяла. Проблема была в том, что муж отреагировал именно так, как ожидается от мужчины в той местности. Эти молодцы рубят женщин на куски при малейшем поводе. Пощадив жену, он обесчестил бы себя и своих сыновей. Позор был бы велик. Невероятно, да? Они стали бы отверженными, мишенью для всеобщих шуток. Друзья отвернулись бы от них. Но генерал желал дать всем понять, что пришли иные времена. Бёртон-сахиб ругался. На генеральскую недальновидность и упрямство. Дело не в том, будто он оправдывал поступок мужа. Он сразу понял, как мало понимания найдет этот приговор в глазах туземцев. И оказался прав. Везде поносили безумство неверных, которые даже не позволяют человеку защитить собственную честь. Генеральскую резиденцию ежедневно осаждали люди с жалобами и протестами. Этот приговор породил волну слухов о дальнейших намерениях ангреци. В один прекрасный день объявилась даже делегация куртизанок. Бёртон-сахиб как раз присутствовал, когда они вошли. Все были безукоризненно закутаны. Одна из них выступила вперед и произнесла жалобу. Если теперь не будет наказания за супружескую измену, то замужние женщины отнимут у них всю работу. Это лишит куртизанок пропитания. Если так дальше пойдет, они умрут с голода.
28. КТО ЗАНИМАЕТ ВЫСШЕЕ МЕСТО
Днем — Йеханнум, а ночью — Барабут. Восхищен ли ты моей акклиматизацией? В вольном переводе: здесь днем правит дьявол, а по ночам — Вельзевул. Потребен вкус к своеобразным развлечениям, чтобы приятным образом проводить тут время. Я приспосабливаюсь. И все же кое-чего мне не хватает. Главным образом общества гуруджи. Ты, разумеется, помнишь, я однажды подробно описывал его. Языку обучить могут многие, учителей как мух в конюшне, но попробуй найти такого, кто умеет прославлять священную несерьезность жизни как восхитительный старый чудак Упаничче. Он примирил меня с жизнью в Бароде. Особенно под конец. Это не преувеличение. Он обладает даром, который заставляет узреть ничтожность твоего собственного отчаяния. Дух его стоит одной ногой в повседневности, другой — парит над человеческим бытием. Наверное, я больше его не увижу. Индуизм в прошлом, мой милый друг, я обратил себя к исламу. Он лучше подходит местному пейзажу, оттого высока плотность дервишей. Думаю, что заменю гуруджи отрядом учителей. Прозрачные тайны аль-ислама поверяет мне один человек на берегу реки. Мы сидим под деревом тамаринд на войлочном коврике, среди сладковатого аромата базилика, и наставляя меня, этот учитель, слишком оседлый для дервиша и слишком необузданный для алима, глядит на поток внизу, на людей, теснящихся на плоту. Я нашел уже и учителя персидского, самого гордого языка на свете, как мне кажется после того, как меня провели по его дворцу. Есть и третий учитель, настоящий дервиш, дикий, который сеет смуту, чтобы достичь высшего познания. К сожалению, мы редко видимся. Но когда мы встречаемся, по большей части случайно, он тайком сует мне стихотворение, словно я — бедняк, но гордый, чтобы просить подаяние. Он вывел из равновесия мой ватерпас. Я последовал за ним, и он увлек меня в песню, точнее, в некую песенную форму. Мой дорогой, такое стремительное соскальзывание в экстаз нам и неведомо. Музыка и поэзия — вот чем благословенна эта земля. Урду, поющий язык, столь обилен, что разговор о картофеле производит на меня впечатление постановки «Чайльд-Гарольда». Я наслаждаюсь переменой.
29. НАУКАРАМ
II Aum Prathameshvaraaya namaha I Sarvavighnopashantaye namaha I Aum Ganeshaya namaha II
— Признаюсь, за эти годы в Синдхе я превратился из доверенного в изгоя.
— Ты впал в немилость?
— Он отвернулся от меня. Он ничего со мной больше не обсуждал.
— И тебя это удивляет?
— Как так?
— Ты так пренебрежительно, с такой ненавистью говоришь о мусульманах, как мог он довериться тебе, поведать о волнующих открытиях в его новых путешествиях?
— Почему вы говорите про ненависть? Нет у меня никакой ненависти. Когда мы прибыли, я совсем ничего не знал о мийя. Вы и представить себе не можете, на что они способны. Они принуждают наших людей становиться мийя. Их гнусные поступки невыносимы. Разве мои слова — ненависть? Одного баньяна оклеветали и подали на него в суд. Думаю, он поспорил с другим торговцем.
— С мийя?
— Разумеется. Обвинения были явно высосаны из пальца. И что же решил кади? Баньяна увели. С него сняли одежду. Его помыли, так, как мийя представляют себе мытье. Трижды здесь, трижды там, и постоянно что-то каркали. Потом одели в новую одежду и повели в мечеть. Забросали его своими молитвами. Ему пришлось повторять, что он верит в то, во что должен верить мийя. И потому что он повторил все верно и не запутался, только вдумайтесь в это, они возбужденно объявили, мол, свершилось чудо. А потом наступило самое ужасное, бедняге сделали обрезание.