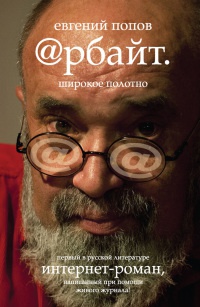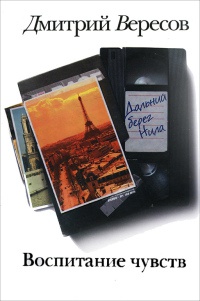Конструкция была примитивной донельзя, по сути дела элементарный детектор, настроенный лишь на одну волну и не способный посылать сигнал. Кроме того, это был воистину шедевр простоты и эффективности. Размером двадцать на десять сантиметров, приемник отлично вписался в банку из-под кофе с фальшивым съемным верхом, куда мы набросали арахиса. Банка с невинным видом стояла у Тью в изголовье — заржавевшая, некогда серебристая емкость, таившая в себе радиолампы и конденсаторы.
Воцарился ежевечерний, строго соблюдаемый ритуал. По лагерю расставляли людей, чтобы те оповещали о появлении любого японца; многие даже не понимали зачем. Тью подключал приемник к антенне, которая пряталась в пальмовой кровле, включал питание и заматывал одеялом голову с наушниками. Радиооператором всегда был он сам, так как лучше всех мог справиться с любыми проблемами настройки, если сигнал терялся. Сводка занимала в эфире минут десять, и по мере приема Тью записывал наиболее важные новости. Затем драгоценный клочок бумаги шел по рукам круга избранных, а Тью разбирал аппарат и прятал его. До сих пор перед глазами стоит, с какой заботливостью брал он эту хрупкую, неказистую поделку в свои сильные руки, до чего ярко проявлялась нежность истинного мастера к своему детищу.
Информацию мы воровали даже у тюремщиков. Поступали сведения об их разгроме на Соломоновых островах, в Новой Гвинее и на Гвадалканале; мы услышали, что немцев остановили в России и отбросили в Северной Африке. С ноября 1942-го, когда заработало наше радио, мы вновь почувствовали, что нас и впрямь могут освободить, что наша победа не за горами.
Ланс Тью порой вел себя до того наивно, что волосы вставали дыбом. К примеру, нам позволялось бродить в лагерных окрестностях, где частенько встречались крошечные сиамские поселения. Однажды Тью наткнулся на «заброшенный буддийский храм» — его собственные слова — с маленькой позолоченной статуэткой Будды в пыльной нише и россыпью засохших цветов на полу. Ничтоже сумняшеся, наш сержант прибрал золотого божка к рукам: отличный выйдет сувенир из Сиама. Когда статуэтка случайно попала нам на глаза, мы гневным хором заставили Ланса вернуть ее на место. Во-первых, мы испугались, что придется жестоко поплатиться, а во-вторых, на нервы сильно действовала легкая улыбочка маленького будды и ощущение облака дурной кармы, которое буквально висело вокруг него. Позднее — и отнюдь не в шутку, не от праздного безделья — я задумывался, уж не в наказание ли за это богохульство произошли все те события, что имели место потом.
А может, поступок Тью был всего лишь очередным симптомом нашего бесшабашного отношения ко всему на свете, нахального пренебрежения к японцам и самому плену. «Да нам все трын-трава», мы до сих пор чувствовали себя непобедимыми. Слабость, покорность — ничего этого капитуляция с собой не принесла.
Вместе с тем на станцию Банпонг, что лежала где-то в миле от наших мастерских, прибывали и прибывали длинные эшелоны, всю зиму напролет. Товарные вагоны, набитые грязными и голодными людьми, приходили из Сингапура. Японским и британским паровозам приходилось вместо угля жечь местную древесину, которая давала характерный жиденький, пахучий дым. Не реже пары раз в неделю, когда стихал шум прибывающего поезда и отдувающийся локомотив уже стоял на станции, над кронами деревьев мы видели его рваные ленты. Эта дорога топилась людьми.
Глава 5
Официальным посредником между тюремщиками и лагерным контингентом в Банпонге был молодой японец-переводчик с американским акцентом. Его мы прозвали Ханки-янки. Вполне дружелюбный человек, и когда в начале февраля 1943-го он пришел сказать нам, мол, завтра переезд, так что подготовьтесь, эта новость не вызвала особой тревоги.
К тому же мы, по крайней мере, знали пункт назначения: Канчанабури, городок милях в тридцати к северо-западу от Банпонга, на новом железнодорожном участке, который вел в Бирму через Перевал трех пагод. Сейчас мы практически не сомневались, что этот маршрут должен выйти на бирманский Моулмейн, туда, где река Салуэн впадает в Мартабанский залив. Вздохнув с облегчением, что нас не посылают на уже известную стройку в диких холмах Канчанабурской провинции, откуда приходили чудовищные слухи, мы с воинственной бравадой начали упаковывать пожитки. С собой мы брали утварь для пищеблока, запас медикаментов, каким бы скудным он ни был, ну и «мебель», скажем, пару табуреток, самодельный столик, импровизированную книжную полку из фанеры — словом, все те вещи, которыми за минувшие месяцы удалось разжиться на помойках, чтобы хоть как-то обставить наши бараки.
Мы еще задирали нос, поплевывали на опасность и смеялись над нашими поработителями, потому как не до конца понимали, чтó нам может грозить. Так уж водится среди молодежи: когда ее сгоняют в кучу, происходящее принимает оттенок некой игры. Лишь позднее приходит осознание, что ты, вообще-то, угодил в капкан. Мы чуть ли не дразнили японцев сворованным у них добром. Помнится, кто-то беспечно приторочил пилу к брезентовому вещмешку, которым я обзавелся в Чанги. Какого только инструмента не было в нашем багаже: и зубила, и молотки, и отвертки. Я уж не говорю про тот знаменитый паяльник… Если бы побег означал одно лишь проламывание тюремных решеток, мы бы давно покинули свою клетку.
Нас набили в грузовик, который вел кто-то из британских рядовых. Я сидел в кабине; с краю, между мной и водителем — японский охранник. Наша небольшая автоколонна выехала из лагеря и свернула на запад, оставив за собой бамбуковую изгородь и длинный барак. На полдороге в Канчанабури — или «Канбури», как это слово произносили пленные англичане, — у водителя соскользнула нога с педали, и мы ткнулись в передний грузовик. Охранник взбесился, принялся орать на водителя, выталкивать его из кабины. Я тоже осторожно выскользнул на землю с другой стороны, не вмешиваясь и настороженно следя за японцем.
А того уже распирало от ярости, страха и презрения. Вряд ли сильно старше меня, он имел над нами абсолютную власть, но сейчас она чуть ли не уплывала из рук, к тому же нас много, а он один. За такие вещи надо карать, вот он и полоскал водителя на чем свет стоит. На память пришли всякие истории, перед глазами всплыла картинка с расстрелянными медсестрами в полосе прибоя… У этого типа уже костяшки пальцев побелели под смуглой кожей, до того сильно он стискивал свою винтовку. Хорошо еще, он вовремя пришел в себя, приказал нам лезть обратно в кабину, и грузовики вновь тронулись в путь.
Пока что все наши контакты с японскими зверствами были как бы опосредованы, потому что даже отрубленные головы злосчастных китайцев в Сингапуре не угрожали нам напрямую: мы ведь были британцами, пусть и плененными. Вплоть до этого момента я ни разу не видел, чтобы кому-то из моих товарищей по несчастью грозила расправа, хотя работа в путеукладческой бригаде дико выматывала физически. Да, бывали случаи, когда кого-то заставляли часами изнывать на солнцепеке за некое нарушение лагерных правил, но чтобы прямое нападение… В то утро я остро ощутил, до чего близко оказался к проявлению подлинного насилия. Трудно было сказать, в чем тут дело: то ли нам попался психопат, то ли у него просто сдали нервы из-за каких-то особо мрачных новостей, то ли он предчувствовал, чем для Японии кончится война… Эта жутковатая сценка на шоссе, в окружении чуть ли не театральных декораций из зелени раскидистых пальм и манговых деревьев, явилась новым шагом к опасности, утратой даже тех лохмотьев цивилизации и комфорта, за которые мы до сих пор цеплялись. «Нулевой километр» находился на восточной окраине Банпонга. Я начинал опасаться, что эта железная дорога будет отсчитывать свою протяженность отрицательными числами, которые измеряются на принципиально иной шкале.