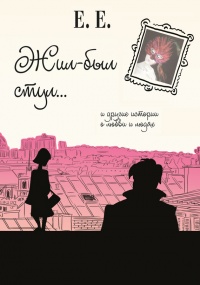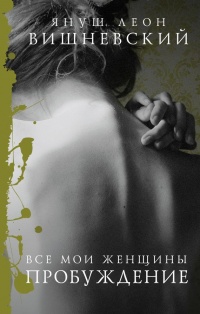Там он увидел сложенную одежду; больше, кажется, не было ничего. Горевшая до сих пор под навесом лампочка отбрасывала пучок света сквозь расположенное рядом оконце, скудно освещая полуподвальное помещение.
Форменная одежда, серая гимнастерка, старик провел рукой по грубой ткани, по широким нагрудным карманам, сумка противогаза и что-то шершавое, матерчатое, с застежками. Он вытащил эту вещь из ящика. Обмотки. В обмотки был завернут футляр. Старик открыл его, увидел что-то коричнево-зеленое, аккуратно сложенное. Он развернул материю и поднес к свету. Плащ-накидка.
Вещевой мешок. Старик раскрыл его, удивляясь заученным движениям, это было очень знакомое движение — открыть вещмешок, хотя прошло уже больше тридцати лет. Вот так, всего лишь одно движение — и все прошедшее с тех пор время в мгновение ока теряет всякое значение и всякий смысл.
Коробки со старыми ботинками, пустая почерневшая серебряная рамка, граммофонные пластинки, щетки, барометр. Перевязанный бечевкой сверток. Старик попытался развязать ее. Тщетно. Тогда он перегрыз ее зубами.
Из свертка выпало письмо службы розыска пропавших без вести лиц. Оно было ему знакомо, его копию он видел в документах передачи права собственности. Помнится, он много раз перечитывал это письмо, знал его наизусть.
«На основании опроса других лиц, — говорилось в том письме, — а также на основании показаний вернувшихся, описания боевых действий, дневниковых записей, а также на основании данных военных и специальных карт можно с большой долей вероятности считать, что вышеназванный был убит».
Он, как уже часто бывало, задумался. Есть ли в этих строчках что-то такое, что поможет ему найти истину?
Он наткнулся на пачку фотографий, достал их из ящика, прижал к груди, но все они выскользнули и упали на пол, в руках осталась только одна, и он, крепко держа ее, подошел ближе к свету.
Снег, грузовик. Возле него стоят люди. Курят. За их спинами щит с названием населенного пункта. Очевидно, это Польша или граница Польши. Люди стояли на шоссе, у грузовика была спущена шина, и один из солдат, смеясь, целился в объектив домкратом. Кузов грузовика был не полностью закрыт брезентом, за откинутым пологом были видны сложенные продолговатые серые предметы — какие-то трубы или ружейные стволы. Фотография была на удивление четкой и поэтому словно уменьшенной. Резкость отдельных предметов выделяла разницу между передним и задним планом.
Был ли Мюллер среди этих людей?
Он вспомнил одного Мюллера со сломанной ногой, которому он когда-то помог выбраться из залитого водой окопа и которого потом какое-то время катил на ручной тележке. Может быть, это и есть тот самый Мюллер?
Старик этого не знал.
Был еще второй Мюллер, которого старик иногда вспоминал, вместе с ним он как-то раз рыл траншею. У этого второго было отморожено ухо, оно раздулось и было похоже на большой красный воздушный шар. Он проколол Мюллеру ухо, и тот сказал, что будет ему за это вечно благодарен. Может быть, на фотографии есть тот Мюллер?
Встретил ли он Мюллера умирающим, или это было раньше, когда он был еще цел и невредим?
Он знал — даже когда слишком долго об этом рассуждал, и ему казалось, что он все дальше и дальше углубляется в темный тоннель, в котором все становилось бесформенным и неузнаваемым, — что все это лишь увертка. То, чем он прикрывался все эти годы.
Он постарался думать о всех тех мертвых, каких помнил с войны, но их было слишком много. К тому же он не мог вспоминать только убитых немецких солдат.
Чем сильнее пытался он это делать, тем отчетливее выступали на первый план другие мертвецы — из времени его недолгого участия в первых неделях нападения на Советский Союз — и другие, бесчисленные покойники, виденные им, когда он следующей зимой служил в охране пересыльного лагеря военнопленных в Польше.
С тех пор его преследовали военнопленные из этого лагеря, многочисленные, умиравшие от голода. Когда похолодало и им было негде укрыться от мороза, они долго, с перекошенными лицами, бегали по снегу — туда, обратно, — чтобы не замерзнуть, а его ночами мучила мысль о том, каково это было смотреть на мир их глазами: рядом такие же истощенные люди, мертвецы, охрана, неторопливо, педантично, ровными квадратами сплетенная колючая проволока, укрепленная деревянными брусьями, снабженная высокими — для лучшего обзора — караульными будками, опушка леса, барак администрации лагеря, сторожевые вышки — все это мелькало у них перед взором, пока они должны были двигаться, бегать, бегать, бегать до тех пор, пока не приходила спасительная смерть.
Однообразие наполненных страхом дней, потекших после получения письма с извещением о наследстве, слилось в его памяти в нечто мутное и монотонное, в один нескончаемый день, хотя на самом деле прошло несколько месяцев, в течение которых он сидел дома, мало ел, мало пил и еще меньше двигался; это было долгое время, в которое он, наконец, осознал свою вину, нависшую над ним как огромная, холодная, черная тень.
Он снова, внимательнее, взглянул на фотографию.
Там была еще одна дорога, она отходила от шоссе за грузовиком, бежала вдоль поля — серая разветвляющаяся лента с заснеженной колеей. Равнина резко обрывалась ложбиной, за которой виднелись серая поверхность, более темная, чем снег, и белое небо. Там были видны крыши маленького городка, железнодорожная станция.
Теперь фотография казалась ему увеличенной, он видел самого себя, спешащим по этой дороге, сзади раздавался смех солдат, рокот грузовика. Он видел перед собой светловолосого человека в куртке, вымазанной сажей. Человек этот иногда торопливо оборачивался. Руки его тоже были в саже, он часто прикасался к лицу, идя по дороге. Сажа и страх черной массой проступали на его лбу.
Он видел сборный пункт, временно приспособленное огороженное место, в котором неделю назад находилось пятьсот человек; охранника, с которым он коротко поговорил, — один русский, один-единственный. Что ты с ним только делать будешь? Ничего, завтра их будет тысяча, а послезавтра — пять тысяч; он видел охрану, сидевшую в снятом с колес старом железнодорожном вагоне, видел их головы, фляжки, сигареты в углах ртов, тупые рожи, пялившиеся из разбитых окон давно покинутых купе, а потом он увидел пленных, как же много их было, между ними лежали мертвецы.
Он оторвался от фотографии и соскользнул в темноту.
Снова был ход, ход с глиняными, неукрепленными стенами. Пахло гнилью и сыростью. Но ему нужна была дверь, та самая дверь.
Он почувствовал, как лихорадочно заметались его мысли, пока он продолжал упрямо продвигаться вперед.
В памяти снова всплыло точное время прихода незнакомца — это было очень важно. Что сталось с цветами, с букетиком, который мальчишка держал в руке, они не завяли, эти анютины глазки, сорванные с клумбы, они росли, невзирая на то что жена мясника очень нерегулярно их поливала; с самого раннего утра цветы опускали головки, но что делать: тень, тень от припаркованных автомобилей — ведь это же стоянка для машин обитателей гостиницы.