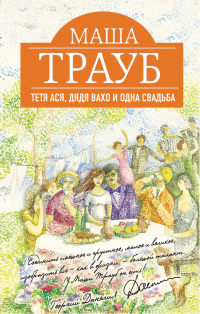Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 54
Что греха таить — я почти влюбилась в Пашку. Чтобы говорить с ним на одном языке, я бессознательно изменила свою речь — стала чаще употреблять стихотворные цитаты, поминать фамилии великих. На эти усилия Грибов взирал весьма снисходительно, а прочитанные мною строчки оценивал: «Хороший текст!» или, чаще: «Плохой текст!». Ему как раз не нравилось, что я стараюсь приобщиться к поэзии — ее он считал своей вотчиной. И, конечно, речи не могло быть, чтобы посвятить мне стихотворение, даже шуточное.
— Я пишу ни о ком и ни для кого. Разве только о себе, — предупредил меня Грибов едва ли не в первую ночь. И всякую встречу возвращался к этой теме.
А когда я начитала Пашке кое-что из Багрянцева (мне, любимой), он скривился:
— Слабые тексты. В отдельных местах проглядывает что-то живенькое, но такое чахлое, такое беспомощное… Видно сразу, что не мастер их писал, а так, ученичок… подмастерье, и никогда ему мастером не стать.
— Постой! Возможно, ты знаешь этого подмастерья. Он тоже в Литике учился. Семинар поэзии, руководителя, правда, забыла, зато сам носил платок под Вознесенского…
— Я не могу помнить всех бездарностей, с которыми меня сводила судьба! — величественно ответил Пашка. — Человек, который хочет быть похожим на Вознесенского, не вызывает во мне ни интереса, ни — тем более — симпатий.
Я даже обиделась за бывшее сокровище:
— Не слишком ли мало внешнего признака, типа кашне, чтобы определить степень бездарности человека?
— Инночка, сердце, более чем достаточно! Поэзия не требует подтверждения внешними атрибутами. Она либо есть, либо ее нет. Чаще, увы, нет. Тем более — в Литинституте. Не знаю, как плохо нужно писать, чтобы не приняли в Литинститут…
— Ну, мало ли кого туда принимают…
— А что ты так завелась из-за этого Багрянцева? Он тебе кто? — вдруг спохватился Павел.
— Бывший муж! — запальчиво призналась я.
— Ах, сердце, извини, не знал, что ты его до сих пор любишь…
Тут же выяснилось, что писать плохие стихи — гораздо худший грех, по Павлу Грибову, чем — для признанного гения — жить вне рамок обывательской морали и порядка.
— Безумие гения — идиотский обывательский миф, которым толпа отвечает великим людям. Если за норму брать сантехника дядю Васю… или журналистку Инну… то гении, безусловно, патология. Но я предпочту ее.
— А то, что все гении безнравственны с точки зрения общепринятой морали? То, что они переступают через своих близких? Примеров сотни: Гоген бросил без средств к существованию жену с детьми, Ван Гог всю жизнь тянул деньги с брата, Пушкин, сам знаешь, ни одной юбки не пропускал, Лермонтов…
— Ты так примитивно рассуждаешь, что слушать тошно. Но тебе, надеюсь, понятно хотя бы, что эти люди запомнились последующим поколениям — и не за их безнравственность, как ты выражаешься, а за то, что они создали.
— То есть ты оправдываешь скверность натуры, если эта натура создала в искусстве что-то значительное?
— Я хочу сказать, что скверный человек не может создать в искусстве ничего значительного — это аксиома! Возможно, что гении не образчики нравственности… по крайней мере, обывательской нравственности, — рассуждал мой возвышенный любовник, выставив босую ногу из-под одеяла и веерообразно шевеля пальцами. Совершенно гениальное движение! — Соотношение «плохой человек — хороший автор» типично для средних поэтов. Большой поэт не может быть плохим человеком, вот и все. Просто обыватель и человек искусства мыслят в разных плоскостях, и ты, сердце, мне лишний раз демонстрируешь, насколько велика пропасть между этими плоскостями. Я уже весь язык оболтал, а тебе впрок не идет. Поэтому дискуссию считаю закрытой. Займемся делом, в котором ты подкована, — «Make love nоt war», вспомнила я плакат из квартиры Дзюбина.
— Паша, но для чего нужно это высокомерие? — пресекла я его растущую сексуальную активность. — Ты же не будешь отрицать, что гении часто переносят лишения, отрекаются от бытовой устроенности, мыкаются как неприкаянные, терпят непонимание… как вот ты от меня… Зачем, Паша? Тебе лично — зачем это?!
— Тебе знакомо такое понятие — «ноосфера»?
Так я второй раз после окончания института услышала слово «ноосфера». На лекциях по философии меня однажды прельстила гениально-изящная концепция оболочки Земли, состоящей из мыслей и чаяний всех живущих и дышащих под солнцем. Неуклонно развивающейся, меняющей и оберегающей нас от хаоса и безмыслия Вселенной. Наверное, я поняла Вернадского слишком прямолинейно… И все же существовать внутри «мыслящей» оболочки казалось уютнее, чем без ее защиты.
Но я никогда не думала, что у философской категории может быть крупное славянское лицо Пашки Грибова.
— Учение Вернадского? Безусловно!..
— Так вот, гении тем и отличаются от пошлой массовки, что живут ради единой цели: чтобы их мысли, их чувства, их дела влились в эту «мыслящую» оболочку земного шара. Пусть это случится через сто, двести, тысячу лет, но мои стихи окажутся в ноосфере, а от большинства моих современников останется тире между двумя датами, и даже могильные плиты к тому времени рассыплются в прах… Моя ментальная сущность уже сейчас пребывает в ноосфере.
— Ты, значит, гений?
— К вашим услугам, мадам. Как можно быть такой непонятливой, чтобы связаться с гением… ну ладно, этот эпитет ко мне станет применим в будущем, лет через пятьдесят, пока — просто поэт высочайшего класса… И не догадываться об этом… и пренебрегать моим предложением заняться наконец тем делом, в котором тебе нет равных… я таковых еще не встречал… Дай губы…
— Паша, но зачем же ты со мной, если я такая тупая?
— Ты трахаться умеешь хорошо. Отлично умеешь, сердце! Я сейчас сгорю от желания, пока ты умничаешь, вместо того чтобы отдаться процессу…
Подозреваю, что он ценил во мне также бытовые удобства. Приходя на поздний ужин, Павел Грибов не интересовался, откуда в тарелке, подставленной ему под нос, появляется еда, и сыта ли хозяйка. Плейбой, истово презиравший журналистику, не гнушался водкой, купленной на деньги с запахом типографской краски. И в долг не стеснялся попросить у меня, безотказной. Эвфемизм «в долг» означал спонсорскую помощь. Мотивировал займы Грибов безыскусно и трогательно, как Карлсон, отнимающий у Малыша банку с вареньем:
— Мне больше не у кого занять, сердце!
И я… вынимала купюры из тощего кошелька либо из бурундучьих тайничков, раскиданных по всей сухаревской коммуналке. Глупо — хотелось сделать ему добро, чтобы он полюбил меня сильнее! Но отношения склеивались по иной схеме — кособоко, в точности по стихам Константина Багрянцева, не тем будь помянут: «То любовь, то беготня, то покой, то нервы…». Пашка раз перенес меня через лужу на руках, поцеловал взасос, поставил, как канделябр, сказал: «Сердце, извини, мне пора, увидимся!» — хотя три минуты назад и речи о прощании не было — и рванул через Садовое кольцо поверху, бывалый москвич!
Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 54