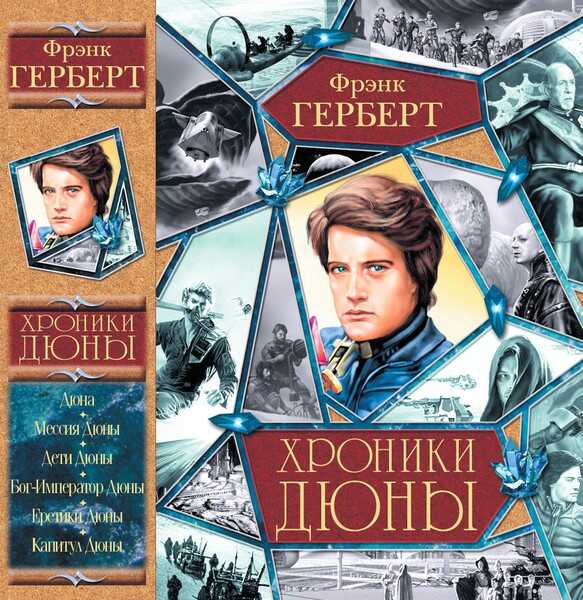что научился точно предсказывать поступки этих снобов. Он умел предвидеть, кто из них откажется присутствовать на приеме, если на него будет приглашен он, Супаари, а кто явится, чтобы подразнить его; кто совершенно не станет здороваться с ним, а кто ограничится приветствием, более подходящим второродному. Первородные предпочитали прямые оскорбления; второродные вели себя более тонко. Его собственный старший брат, Дхерай, мог пройти в дверь, не заметив Супаари на пороге, второродный же брат, Бхансаар, мог остановиться перед ней, словно Супаари был невидимым, и пройти в комнату мгновение спустя, будто ему только что приспичило войти внутрь.
Общество Инброкара, подражая князьям Китхери, игнорировало Супаари или презрительно поглядывало на него из углов. Подчас слово «купчина» всплывало над общим разговором, погружаясь мгновением позже в ласковые волны благовоспитанного веселья. Ушедший в себя Супаари переносил подобное отношение с любезным отстранением и подлинным терпением – ради сына и будущего.
Ясли находились в самой глубине дворцовых строений. Он не имел представления о том, где находилась Жхолаа. Повитуха-руна по имени Пакуарин уверила Супаари в том, что жена его здорова, но добавила:
– Она измождена до последней жилочки, бедняжка. Не то что у нас, – с благодарностью произнесла рунаo. – Из нас детишки выскакивают так же легко, как и попадают внутрь. Не быть жана’ата – это благо. К тому же женщины Китхери всегда узки в бедрах! – пожаловалась она. – Бедной повитухе непросто приходится.
Когда Супаари спросил, Пакуарин признала, что роды расстроили Жхолаа. Еще бы. Новая причина для ненависти к нему: зачал калеку.
Занятый своими думами, Супаар, лишь оказавшись в кухне среди мягких, с придыханием, смешков руна и их бойкой и безобидной болтовни, мешающейся с запахами специй и жарящихся овощей, понял, что Пакуарин провела его сквозь детскую и даже дальше. Пройдя через последнюю решетчатую дверь, он оказался на пустынном хозяйственном дворе, расположенном в дальней части дворцовых строений, и вдруг заметил в углу его небольшой деревянный ящичек.
Супаари привели сюда затем, чтобы он увидел этот ящик, и он остановился на месте как вкопанный, не окончив шаг.
Ни расшитого покрывала для колыбели, ни праздничных лент, колышущихся на ветру, привлекая внимание младенца и обучая его следить за движущимися предметами. Тряпка, взятая из кухни, прикрывала колыбель его дочери, а с ней и его позор от посторонних взглядов. И ящик не новый, отметил Супаари, простая, сбитая из досок коробка для младенцев руна. Колыбель для ребенка кухарки.
Другой человек обвинил бы в подобном неуважении повитуху – но не Супаари ВаГайжур. «Ах, Бхансаар, – подумал он. – Попал. Чтоб твои дети стали падальщиками. И чтоб ты дожил до того, как они начнут есть падаль, и увидел это собственными глазами».
Он не ожидал этого даже после года, полного родственных оскорблений и унижений. Он смирился с тем, что дочь его обречена. Никто не женится на калеке. Положение ее будет даже хуже, чем у третьей, – первородная, но оскверненная увечьем. Из всего, что он знал об обычаях иноземцев, самым непостижимым, самым аморальным казалось ему то, что рожать детей у них может всякий, даже те, у кого имеются отклонения от нормы, способные повредить отпрыску. Каким же надо быть человеком, чтобы осознанно передать свою болезнь собственным внукам?
«Нет, – думал он, – мы, жана’ата, на это не способны! А ты, Дхерай, мог бы преодолеть мелочность Бхансаара, и отвести девочке хоть какое-то место в яслях на единственную ночь ее жизни. Дочерей тебе, которые обслуживают путешественников, – свирепо думал Супаари, – и пусть твои сыновья окажутся трусами, Дхерай».
Подойдя к колыбели, он кривым когтем зацепил и отбросил в сторону прикрывавшую ее грубую ткань.
– Ребенок ни в чем не виноват, господин, – заторопилась с советом повитуха, испуганная резким запахом гнева. – Бедняжка не сделала ничего плохого.
«A кого же мне винить? – захотелось ему огрызнуться. – Кто положил ее в этот мерзкий ящик?.. Кто принес ее в этот жалкий двор?.. Я… я ничтожный», – думал он, склоняясь над колыбелью…
Выкупанная, накормленная и спящая дочь его благоухала, как пахнут первые капли дождя в грозу. Голова его пошла кругом, он пошатнулся, перед тем как стать перед ней на колени. Вглядываясь в ее крохотное совершенное личико, он по очереди, шесть раз поднес ко рту свои длинные когти, отхватив каждый из них – так сильна была в нем потребность взять ее на руки и не причинить при этом малейшей боли. И почти в тот же самый момент понял, какую унизительную и бесповоротную глупость только что совершил. Лишенный когтей, он вынужден будет предоставить Лжаат-са Китхери право осуществить обязанность отца. Но разум его таял в тумане, и он вынул свое дитя из ящика, неловко прижав дочку к груди.
– Глаза Китхери! Красотка, как и ее мать, – невинным образом щебетала повитуха-руна, радуясь тому, что этот жана’ата успокоился, – но носик у нее твой, господин.
Невзирая на ситуацию, он рассмеялся, забыв обо всем, забыв о своем одеянии, касавшемся еще блестевших от утренней мороси глиняных плиток, для того чтобы можно было взять ребенка на руки. С душевной болью он провел пальцем по бархатной и нежной щечке, лишенные когтей корявые пальцы его казались странным образом обнаженными и беззащитными, как шейка дочери. «Я не должен был иметь детей, – подумал он. – Вывихнутая ножка – это знак. Я все сделал неправильно».
Собрав воедино всю свою внушительную отвагу, чувствуя, как перехватило горло, Супаари принялся распутывать скрывавшие девочку пеленки, заставляя себя увидеть то, что обрекало этого ребенка на смерть в младенчестве, унося с собой во тьму все его надежды. Но то, что он увидел, заставило его задохнуться.
– Пакуарин, – произнес он самым осторожным образом, стараясь ничем не встревожить повитуху. – Пакуарин, кто видел этого ребенка, кроме нас с тобой?
– Сановные дядья, господин. Они доложили об увиденном Высочайшему, но сам он не приходил посмотреть на нее. Какая жалость! Госпожа уже пыталась убить эту крошку, – бездумно выпалила Пакуарин. Однако, услышав собственные слова, сообразила, что сделала неправильно. Жхолаа хотела убить ребенка еще до того, как стало известно о ее увечье. Рунаo начала раскачиваться из стороны в сторону, но вдруг остановилась.
– Госпожа Жхолаа сказала, что лучше умереть новорожденной, чем жить обреченной на безбрачие, – сказала она, не солгав при этом, ибо Жхолаа действительно говорила эти слова несколько лет назад. Удовлетворившись той сообразительностью, с которой вплела эту фразу в настоящее, Пакуарин благонамеренно затрещала: – И так должно быть. Никто не захочет жить с калекой. Но неправильно, чтобы родительница делала это. Обязанность лежит на родителе, господин. Эта услужливая сохранила ребенка для твоей