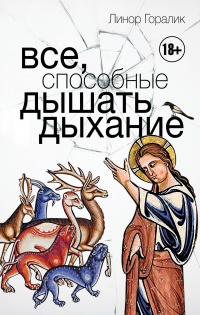Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 59
Кремация взрослых занимает несколько часов, включая сам процесс сжигания и время охлаждения. На детей уходило не более 20 минут. Я ставила перед собой цели: «Итак, Кейтлин, сколько сейчас? 15:15? Спорим, до 17:00 ты успеешь сжечь пять младенцев? Вперед, девочка, пять до пяти. Иди к своей цели».
Ужасно? Безусловно. Но если бы я проливала слезы над каждым младенцем, желанной и крошечной потерянной жизнью, то сошла бы с ума. Я бы превратилась в подобие той больничной охранницы и стала бы запуганной женщиной, лишенной всякого чувства юмора.
Мне нравилось разворачивать детей старшего возраста, хранящихся в синих пакетах. Я вскрывала эти пакеты вовсе не из-за мрачного любопытства. Мне просто казалось неправильным не взглянуть на них и бросить их в печь так, словно они никогда не существовали. Было бы проще притвориться, что это лишь биологический мусор, не заслуживающий внимания.
Бывало, что я вскрывала пакет и удивлялась над деформацией некоторых частей тела: слишком большая голова, выпученные глаза, перекрученный рот.
В Европе до эпохи Просвещения уродства объяснялись множеством причин, включая порочность матери и злые мысли матери и отца.
Физические недостатки ребенка считались отражением грехов его родителей.
Амбруаз Паре[40] приводит длинный список причин, по которым рождались дети с физическими недостатками, в своем трактате «О монстрах»: гнев божий, излишек семени, проблемы в матке, нескромные пристрастия матери. Сегодня все это кажется смешным, если, конечно, не считать употребление наркотиков во время беременности «нескромным пристрастием».
Многие такие дети не были желанными, и сам факт их существования был обузой для родителей. Их развитие на пути от эмбриона до младенца на каком-то этапе пошло не так. В Окленде гораздо больше бедных людей, чем в остальной Калифорнии, и наркотики там очень распространены. В «Вествинд» поступают младенцы всех цветов кожи. Нечестивое поведение типично для многих жителей Окленда.
Мне всегда было интересно, были ли дети с врожденными аномалиями развития жертвами жестокой биологии или же собственных матерей, которые не смогли изменить свои привычки и образ жизни, даже когда внутри них рос ребенок. Иногда такие матери даже несколько месяцев спустя не хотели забрать прах собственного ребенка, несмотря на многочисленные телефонные звонки из похоронного бюро.
Я плакала только однажды. По старшему ребенку. Однажды днем я зашла в кабинет к Майку и спросила, чем мне заняться, пока мои сегодняшние жертвы горят.
– Знаешь, вообще-то ты могла бы… А, ладно, не важно.
– Подожди, почему не важно?
– Я хотел попросить тебя сбрить волосы у ребенка, но не переживай, я не буду тебя заставлять.
– Нет, я это сделаю! – сказала я, все еще желая показать, что не боюсь трупов.
Той девочке было уже 11 месяцев, когда она умерла от патологии сердца. Родители хотели сохранить ее волосы, чтобы, как я надеялась, положить их в медальон или кольцо, подобно моде викторианских времен. Я восхищалась тем, как люди изготавливали красивые украшения из волос усопших. Мы постепенно утратили эту традицию и стали отрицательно относится к хранению любых частей тела мертвых, пусть даже таких невинных, как волосы.
Мне необходимо было взять на руки маленькое тело этой девочки, ведь так мне было удобнее всего захватывать и сбривать ее крошечные светлые кудряшки. Я положила локоны в конверт и понесла тело ребенка в крематорий. Стоя напротив печи и готовясь поместить туда малышку, я внезапно начала плакать, что было редкостью в таком рабочем окружении.
Почему именно этот ребенок пробудил во мне настолько сильную печаль?
Возможно, это потому что я только что побрила ее, завернула в одеяло и была готова положить ее в огонь, будто совершая тем самым какой-то священный ритуал. Я словно была молодой женщиной, избранной собирать тела детей, обривать их головы, а затем сжигать их на благо общества.
Возможно, это было связано с тем, что она была красива. У нее были губки бантиком и пухлые щечки, и она очень напоминала ребенка с упаковки детского питания «Гербер» 1950-х годов.
Быть может, она стала символом всех детей, по которым я не плакала. Однако у меня просто не было времени на слезы, ведь я хотела вовремя выполнить свою работу и успеть сжечь пять до пяти.
Или же ее голубые глаза в некой самовлюбленной манере напомнили мне о себе самой и о том, что я жила не для того, чтобы быть сожженной, а чтобы сжигать. Мое сердце бьется, а ее уже нет.
Я понимала, почему Майк хотел, чтобы ребенка побрила именно я, хотя он поначалу не решался озвучить свою просьбу. Просто у него тоже был пятилетний сын, мальчик с ангельской внешностью. Процесс кремации детей был тяжел для 23-летней девушки без детей, но для любящего отца он был настоящей пыткой. Майк никогда этого не озвучивал, но были моменты, когда его с виду жесткая скорлупа трескалась и другим становилось понятно, что это его задевало.
В течение нескольких месяцев я думала, что Майк – настоящий крепкий орешек. Однако страшный Майк, живущий в моей голове, не имел ничего общего с Майком настоящим, у которого была жена по имени Гведлис, очаровательный маленький сын и садик на заднем дворе. Он пришел работать в крематорий после долгих лет борьбы за узаконивание амнистии для беженцев. Я считала его черствым человеком, потому что как бы усердно я ни работала, он оставался равнодушным и совершенно не впечатленным моими успехами. Не то чтобы он критиковал меня, но отсутствие ответной реакции пугало беззащитную молодую девчонку. Я боялась, что такая слабачка, как я, не справится с работой, не одолеет реальную смерть, рядом с которой я так отчаянно мечтала находиться.
Однажды я спросила Брюса о нежелании Майка иметь дело с детьми. Он посмотрел на меня так, словно этот вопрос говорил о моем сумасшествии. «Ну да, Майк хочет, чтобы этим занималась ты, – ответил он. – У него же есть ребенок. У тебя его нет. В тех мертвых младенцах всегда видишь своих детей. Когда становишься старше, то мысли о своей смерти начинают к тебе подкрадываться. Вот увидишь, чем старше ты будешь, тем больше тебя будут пугать дети».
После того как тело малышки сгорело, от него осталась лишь крошечная кучка праха и фрагментов костей. Детские кости слишком малы, чтобы измельчать их в кремуляторе для взрослых. Однако требования общества и закон предполагают, что мы не имеем права возвращать родственникам пакет с костями. После того как кости остыли, мне пришлось измельчать их вручную. Используя маленькое металлическое приспособление, похожее на пест, я растолкла фрагменты черепа и других костей до однородной массы. Детский прах занял лишь одну восьмую чаши для кремированных останков, но родители могли захоронить его, переложить в крошечную урну, развеять по ветру или подержать в руках.
Моя бакалаврская диссертация была посвящена средневековым ведьмам, обвиненным в приготовлении на костре мертвых детей и перемалывании их костей. Всего через год я сама начала сжигать умерших детей и толочь их останки. Трагедия женщин, обвиненных в колдовстве, заключалась в том, что они на самом деле никогда не измельчали детские кости, чтобы натереть ими метлы и полететь на полуночный дьявольский шабаш. Однако их совершенно несправедливо привязывали к столбу и заживо сжигали. Я же, наоборот, перемалывала кости младенцев. Часто их несчастные родители благодарили меня за заботу и внимательное отношение.
Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 59