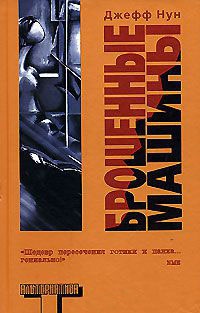Дни тянулись скучные, однообразные, как звенья нескончаемой ржавой цепи. В квартире жили еще пятеро семей, и у всех были дети. Целыми днями по коридору разносился топот босых детских ног, звенел обиженный плач, слышались звуки яростной драки и осуждающие окрики матерей.
Катя боялась выходить из своей комнаты. В коридоре ее поджидала оголтелая детская стая, главным законом которой была заповедь: «Бей чужака!»
Девочку подкарауливали в коридоре среди висящих для просушки простыней или на кухне, нападали в прихожей, где громоздились шкафы со столетним хламом, дребезжали старые велосипеды, а по ночам шуршали, пробираясь в норы, огромные жирные крысы с голыми хвостами. Она была еще слишком мала, чтобы дать отпор кому-либо, детям или крысам, и потому старалась не попадаться на глаза ни тем, ни другим.
Серые будни отступали, и праздник приходил тогда, когда приезжала мама.
О ее приезде становилось известно за несколько дней. Старухи Колыванихи торжественно прибирались в комнате, куховарили возле примусов, громогласно рассказывая соседям, что наконец-то дочка-артистка возвращается из Москвы.
Обитатели коммуналки, обычно относившиеся к старухам с привычным раздражением, слушали их уважительно и внимательно. Алкоголик дядя Паша, покуривая в форточку, внимал рассказам Младшей бабушки о ее дочери и благосклонно гладил по голове путающуюся на кухне Катьку. Его щербатый рот улыбался в алкогольном добродушии.
— Мамка-то небось заберет тебя к себе?
— Да, — слабым эхом откликалась Катя, удивленно взирая на соседа круглыми, как пуговицы, карими глазами.
И вот наступал торжественный день. Катю поднимали затемно, гладко причесывали с водой, чтобы чуть-чуть пригладить непослушные волосы. Потом ей надевали красивое голубое платье, любимое только потому, что на нем были нашиты ярко-алые деревянные вишенки, и они с Младшей бабушкой отправлялись на вокзал.
Мама приезжала веселая, яркая, очень красивая. Ни у кого в квартире, даже у смазливой холостячки Людки, работавшей на фабрике швеей-мотористкой, не было таких потрясающих платьев. Мама бесконечно, до протестующего писка тискала дочку, целовала ее, задаривала конфетами и шоколадками, тормошила, обещала повести в Парк культуры имени Кирова, забрать с собой в Москву, поехать с ней к папе, подарить котенка… Но она никогда не выполняла своих обещаний и дня через три, максимум через пять, внезапно уезжала, оставив после себя разор и щемящую грусть. Оставшиеся после нее мелочи (веревочку, которой был перевязан ее желтый чемодан, пустой патрончик помады, шпильку из ее пышных, собранных в упругий шар на затылке волос)
Катя собирала и хранила в заветном месте, как драгоценность.
В присутствии матери девочка совершенно преображалась. Она много, до истерического визга смеялась, бегала по квартире, как сумасшедшая, отчаянно ввязывалась в драки и первая задирала соседских детей. Смех неожиданно прерывался бурными рыданиями, Катя капризничала, требовала к себе внимания, отказывалась спать и есть, совершенно переставала слушаться бабушек и вообще походила на реку, вышедшую из берегов. Однако, как только мать уезжала, она вновь становилась молчаливым забитым ребенком, скользившим по комнате неслышно, как тень.
За те два с лишним года, что Катя прожила у бабушек, отца своего она видела только однажды, когда он проездом оказался в Ленинграде. Она смотрела на этого незнакомого, чернявого мужчину, чем-то похожего на алкоголика дядю Пашу (вторая комната по коридору налево), и испуганно жалась к ногам бабки. Она боялась, что этот человек вдруг схватит ее под мышку и увезет ее далеко-далеко, в пугающую грозную неизвестность.
Ей не хотелось перемен. Она боялась потерять то хрупкое неуверенное благополучие, к которому притерпелась в Ленинграде. Ей не хотелось вновь прилаживаться к чужим, взрослым людям, стараться угадать оттенки их переменчивого настроения, изображать из себя примерного ребенка для того только, чтобы получить кусок ласки из неприветливых жестких рук. Лишь на любовь одного-единственного человека в мире она могла рассчитывать при любых условиях — на любовь матери. Но мать была далеко.
А потом случилось странное и интересное событие. Старшая бабушка легла вечером спать и не проснулась. С рассветом, когда в коридоре загремели шаги соседей, собиравшихся на работу, зашипели плиты на кухне, загремела вода в туалете, Катя тайком пробралась к бабушке под одеяло, чтобы погреться возле нее перед тем, как вставать, и внезапно обнаружила, что под одеялом у Старшей бабушки так же холодно, как в выстывшей за ночь комнате. Она еще немного полежала в недоумении, а потом тихо, как мышка, перебралась обратно в свою постель.
А потом почему-то все забегали по коридору, захлопали дверьми, зазвенел телефон, чей-то нервный истерический голос проговорил с надрывом: «В одной квартире, нет уж позвольте!..» Потом пришли какие-то незнакомые люди и унесли Старшую бабушку. Кате сказали, что бабушку Боженька забрал на небо, потому что он соскучился по ней. Конечно, это были враки, ведь Катя собственными глазами видела, что никакой Боженька бабушку не забирал, а забрали ее два дяденьки и унесли на носилках. И пахло от этих дяденек, как от дяди Паши из второй комнаты по коридору налево, а вовсе не так, как пахнет в церкви, куда они тайком ходили со Старшей бабушкой на Пасху.
От взрослого сюсюкающего вранья стало неуютно и тревожно. В воздухе запахло переменами. Младшая бабушка то принималась плакать, то внезапно замолкала, дежурно прикладывая к углам глаз концы своего неизменного платка с аляповатыми розочками. Теперь она частенько забывала кормить Катю обедом, и та повадилась тихонько подворовывать хлеб у соседей, не смея своим обременительным существованием нарушить огромное торжественное горе, поселившееся в доме.
Долго ждали Катину маму, но та прислала телеграмму, чтобы бабушку хоронили без нее, у нее съемки. На кладбище Катю не взяли, оставили дома.
Взрослые отсутствовали добрых полдня, потом дружной толпой заявились домой. Они были озябшие и нетерпеливые в предвкушении поминок.
Потом взрослые пили водку и желали, чтобы земля была пухом, а Катька в это время сидела под столом и думала, каким образом земля может стать Старшей бабушке пухом. Ей представлялись перья из подушки, которые взмывают вверх от сквозняка и осыпают Старшую бабушку. Перья эти черные, потому что они — земля.
И тут Катя представляла себе, как седой суровый старик, по всей видимости Бог, сыплет эту землю ладошкой, и она летит плавно и красиво, точно пух, покрывая Старшую бабушку черным снегом. Такой снег лежит у фабричных зданий на Нарвской заставе, где они были в том году, когда ездили к знакомой портнихе за обрезками ткани для лоскутного одеяла.
А потом опять потянулись скучные одинаковые дни. Однажды бабушка долго кричала маме в трубку, что денег мало, теперь у нее только одна пенсия, пусть мама высылает, потому что им едва хватает на хлеб.
— Нам едва хватает на хлеб, — со взрослой грустью жаловалась Катя соседям, когда те возились на кухне с обедом, и ей неизменно совали в ладонь что-нибудь вкусное. И Катя съедала это вкусное тайком в коридоре, забившись в угол между ящиком с ношеной обувью и старой детской коляской без колес.